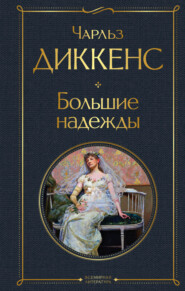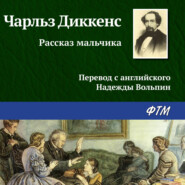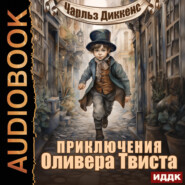По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Дэвида Копперфилда
Автор
Жанр
Год написания книги
1850
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О! А я уж было подумал, что меня вы не возьмете! – сказал мистер Омер и захохотал так, что раскашлялся.
– Раз вы это сказали, то, видите ли, я и приложил все силы… – продолжал молодой человек. – Может, вы изволите поглядеть?
– Погляжу, милый, – сказал мистер Омер, вставая. Тут он повернулся ко мне. – Не хотите ли посмотреть…
– Нет, не надо, отец! – перебила Минни.
– Я подумал, дорогая моя, что ему это будет приятно. Но, пожалуй, ты права.
Не знаю, почему я догадался, что они пошли поглядеть на гроб моей дорогой, моей горячо любимой матери. Я никогда не слышал, как сколачивают гробы. Я никогда еще не видел ни одного гроба. Но когда я услышал стук молотка, у меня мелькнула мысль о гробе, а как только молодой человек вошел, я уже твердо знал, что он мастерил.
Но вот работа была завершена, две девушки, чьих имен при мне не называли, стряхнули со своих платьев нитки и обрезки и пошли в лавку, чтобы, в ожидании заказчиков, привести ее в порядок. Минни осталась в комнате, чтобы сложить все, над чем они трудились, и упаковать в две корзины. Занималась она этим делом, стоя на коленях и напевая какую-то веселую песенку. Джорем – ее возлюбленный, в чем я не сомневался, – вошел в комнату, и пока она занималась делом, сорвал у нее поцелуй (не обращая на меня никакого внимания) и сказал, что отец пошел за повозкой, а ему надо поскорей все приготовить. Затем он вышел снова; Минни сунула в карман наперсток и ножницы, ловко воткнула иголку с черной ниткой в свой корсаж и быстро надела салоп и шляпку, глядясь в повешенное за дверью зеркальце, в котором я видел отражение ее улыбающегося личика.
Я наблюдал все это, сидя за столом в углу комнаты и подперев голову рукой, а думал я о самых различных предметах. Вскоре перед лавкой появилась повозка, сперва в нее поместили корзины, потом меня и, наконец, уселись трое остальных. Помнится, это была не то почтовая карета, не то фургон, в котором перевозят фортепьяно, окрашенный в темный цвет и запряженный вороной лошадью с длинным хвостом. Места в ней хватило для всех нас.
Не думаю, чтобы когда-либо в жизни (может быть, со временем я стал опытнее и умнее) я испытал чувство, подобное тому, какое испытывал в обществе этих людей, помня, чем они были раньше заняты, и видя, как они радуются поездке. Я на них не сердился: скорее всего я их боялся, словно очутился среди каких-то существ, с которыми от природы у меня нет ничего общего. Им было весело. Старик сидел впереди и правил лошадью, а молодые люди сидели за его спиной и, когда он к ним обращался, наклонялись к нему так, что их лица приходились по обе стороны его толстой физиономии, и, казалось, болтовня с ним очень их занимала. Они не прочь были поговорить и со мной, но я хмуро забился в свой угол; меня пугали их взаимные ухаживания и их смех, правда не очень громкий, и я едва ли не удивлялся, как это они не несут возмездия за свое жестокосердие.
Поэтому, когда они остановились, чтобы покормить лошадь, а сами пили и веселились, я не мог прикоснуться к тому, чего касались они, и не нарушил своего поста. И потому-то, когда мы доехали до дому, я поспешил выскочить сзади из повозки, чтобы не оказаться в их компании перед этими печальными окнами, взиравшими теперь на меня, как глаза слепца, некогда такие ясные. О, напрасно задумывался я в школе о том, что вызовет слезы у меня на глазах, когда я вернусь домой, – я в этом убедился, увидев окна комнаты матери и еще одно, рядом с ними, которое когда-то было моим окном!
Не успел я подойти к двери, как уже очутился в объятиях Пегготи, и она повлекла меня в дом. Ее горе прорвалось, как только она завидела меня, но скоро она взяла себя в руки, заговорила шепотом и пошла, неслышно ступая, словно можно было нарушить покой мертвеца! Я узнал, что уже очень много времени она не ложилась спать. Ночью она сидела неподвижно, не смыкая глаз. Пока ее бедную, милую красоточку не опустят в землю, она ни за что ее не покинет – так сказала она.
Мистер Мэрдстон не обратил на меня внимания, когда я вошел в гостиную, где он сидел в кресле перед камином, беззвучно плакал и о чем-то размышлял. Мисс Мэрдстон, что-то писавшая за своим письменным столом, покрытым письмами и бумагами, протянула мне кончики холодных пальцев и спросила металлическим шепотом, сняли ли с меня мерку для траурного костюма. Я ответил:
– Да.
– А ты привез домой свои рубашки? – спросила мисс Мэрдстон.
– Да, сударыня, я привез все мои вещи.
И это было все, что могла предложить мне, в виде утешения, эта твердая духом особа. Несомненно, она испытывала особое удовольствие, выставляя в данном случае напоказ все те качества, какие называла своим самообладанием, своей твердостью, своей силой духа, своим здравым смыслом, – словом, весь дьявольский каталог своих приятных свойств. Особенно она гордилась своей деловитостью и проявляла ее в том, что, ничем невозмутимая, не расставалась с пером и чернилами. Весь остаток дня и с утра до вечера на следующий день она просидела за своим письменным столом и скрипела очень твердым пером, разговаривая со всеми бесстрастным шепотом, и ни один мускул не дрогнул на ее лице, и ни на одно мгновение голос ее не стал мягче, и ничто в ее туалете не пришло в беспорядок.
Ее брат по временам брал книгу, но я не видел, чтобы он читал ее. Он раскрывал книгу и смотрел в нее так, что казалось, будто он читает, но в течение целого часа не переворачивал ни страницы, а затем откладывал ее в сторону и начинал ходить по комнате. Часами я сидел, скрестив руки, и наблюдал за ним, считая его шаги. Он очень редко обращался к сестре и ни разу не обратился ко мне. Во всем замершем доме только он один, если не считать часов, не знал покоя.
В эти дни до похорон я мало видел Пегготи; только спускаясь или поднимаясь по лестнице, я всегда находил ее перед комнатой, где лежала моя мать со своим младенцем, да вечерами она приходила ко мне и сидела у изголовья, пока я засыпал. За день или два до погребения – мне кажется, за день или два, но я могу спутать, когда речь идет об этом печальном времени, которое не было отмечено никакими событиями, – Пегготи повела меня в комнату моей матери. Я помню только, что мне казалось, будто под белым покрывалом на кровати – а вокруг была такая чистота и такая прохлада! – покоится воплощение торжественной тишины, царившей в доме. И когда Пегготи начала бережно приподнимать покрывало, я закричал:
– О нет! Нет!
И схватил ее за руку.
Я помню эти похороны так, будто они были вчера. Помню даже вид нашей парадной гостиной, когда я вошел туда, ярко пылающий камин, вино, сверкающее в графинах, бокалы и блюда, легкий сладковатый запах пирога, аромат, источаемый платьем мисс Мэрдстон, наши черные костюмы… Мистер Чиллип здесь, в комнате, он подходит ко мне.
– Как поживаете, мистер Дэвид? – ласково спрашивает он.
Я не могу ответить: «Очень хорошо». Я подаю ему руку, которую он задерживает в своей.
– Ох, боже мой! – говорит мистер Чиллип, кротко улыбаясь, а слезы блестят у него на глазах. – Наши юные друзья все растут и растут… Скоро мы их не узнаем, сударыня!
Эти слова обращены к мисс Мэрдстон, которая ничего не отвечает.
– Я вижу перемену к лучшему, сударыня. Не так ли? – говорит мистер Чиллип.
Мисс Мэрдстон только хмурит лоб и сухо кивает головой; мистер Чиллип, растерянный, уходит в угол комнаты, прихватив меня с собой, и больше не открывает рта.
Я замечаю это, ибо замечаю все, что происходит, но не потому, что я занят собой или занимался собой хотя бы минуту с той поры, как вернулся домой. Но вот звон колокола, входит мистер Омер и еще кто-то, чтобы закончить последние приготовления. Много лет назад, – как об этом не раз говорила мне Пегготи, – в той же самой гостиной собрались те, кто провожал к могиле, к той же самой могиле, моего отца.
Теперь здесь мистер Мэрдстон, наш сосед мистер Грейпер, мистер Чиллип и я. Когда мы подходим к двери, носильщики со своей ношей уже в саду. И они идут перед нами по тропинке, и мимо вязов, и к воротам, и входят на кладбище, где я так часто слушал летним утром пение птиц.
Мы стоим вокруг могилы. Мне кажется, что день не похож на все другие дни и свет совсем не такой – более печальный. Здесь торжественная тишина, которую мы принесли из дому вместе с тем, что покоится сейчас в сырой земле; мы стоим с обнаженными головами, и я слышу голос священника; он доносится словно издалека и звучит в чистом воздухе, отчетлив и внятен: «Аз есмь воскресение и жизнь, говорит Господь». И я слышу рыдания. И я вижу ее – она стоит в стороне среди зрителей, – верная и добрая служанка, которую я люблю больше всех на свете, и детское мое сердце уверено, что Господь скажет о ней: «Ты исполнила свой долг».
В кучке людей я узнаю много знакомых лиц – лиц, которые я видел в церкви, где всегда глазел по сторонам, лиц, которые знали мою мать, когда она приехала в эту деревню в расцвете своей юности. Я о них не думаю, я думаю только о своем горе, и все же я вижу и узнаю их всех; и я вижу даже там – вдали – Минни, которая посматривает на своего возлюбленного, стоящего около меня.
Но вот все кончено, могила засыпана землей, и мы уходим. Перед нами наш дом, он такой же красивый, он не изменился, но в моем детском сознании он так связан с мыслью о моей утрате, что горе, меня постигшее, ничто по сравнению с тем горем, которое я испытываю, глядя на него. Но меня ведут дальше, мистер Чиллип что-то говорит мне, и когда мы приходим домой, он дает мне выпить воды; когда я прошу у него позволения подняться в свою комнату, он прощается со мной ласково, как женщина.
Все это словно произошло вчера. Последующие события уплыли от меня к тем берегам, где забытое появится вновь; но тот день моей жизни встает передо мной, как высокий утес в океане.
Я знал, что Пегготи придет ко мне, в комнату. Воскресный покой этого дня (он так напоминал воскресенье, я забыл об этом сказать) соблюдался словно бы нарочито для нас двоих. Она села рядом со мной на моей кроватке, взяла мою руку и то нежно целовала ее, то поглаживала – так утешала бы она моего маленького братца – и рассказала на свой лад обо всем, что произошло.
– Уже давно она прихварывала, – рассказывала Пегготи. – На душе у нее было тревожно, и она не чувствовала себя счастливой. Когда у нее родился малютка, я было подумала, что ей как будто лучше, но она стала такой слабенькой и таяла с каждым днем. До рождения малютки она любила сидеть в одиночестве и часто плакала. А когда он родился, она напевала ему так нежно, что однажды мне почудилось, будто это райское пение, которое звучит где-то высоко-высоко в воздухе и уносится к небу.
В последнее время, мне кажется, она еще больше робела, ходила какая-то запуганная, и каждое грубое слово было для нее как удар. Но со мной она оставалась все такой же. Она, моя девочка, относилась по-прежнему к своей глупой Пегготи.
Тут Пегготи примолкла и тихонько похлопала меня по руке.
– В день вашего приезда, мой дорогой, я видела ее в последний раз такой, как в былые времена. Когда вы уехали, она сказала мне: «Я никогда больше не увижу моего любимого, милого мальчика. Что-то подсказывает мне это, и я знаю – это так».
Она изо всех сил старалась держаться, и часто, когда они упрекали ее, что она легкомысленная и беззаботная, делала вид, будто она и в самом деле такая; но она была уже совсем не такой. Своему мужу она никогда не говорила того, что сказала мне, – она боялась говорить об этом кому-нибудь, кроме меня, – но однажды вечером, за неделю до своей смерти, сказала ему: «Мой милый, мне кажется, я скоро умру».
В тот вечер, когда я укладывала ее в постель, она сказала мне: «Теперь у меня на душе спокойно, Пегготи. За те несколько дней, которые остались, он, бедный, свыкнется с этой мыслью, а потом все уже будет кончено. Я очень устала. Если я засну, посидите возле меня, пока я буду спать; не уходите от меня. Господь да благословит обоих моих мальчиков! Господь да поможет моему сыну, потерявшему отца!»
– После этого дня я от нее не отходила, – продолжала Пегготи. – Она часто беседовала с теми двумя, которые жили внизу, она их любила, потому что она ведь любила всех, кто был возле нее, но когда они отходили от ее постели, она поворачивалась ко мне, как будто ей было покойно только рядом с Пегготи; и никогда она не засыпала без меня.
В последний вечер она поцеловала меня и сказала: «Если мой малютка тоже умрет, Пегготи, пожалуйста, пусть его положат в мои объятия и похоронят нас вместе. (Так это и было сделано, потому что бедный крошка пережил ее только на один день.) И пусть дорогой мой Дэви проводит нас к месту нашего упокоения, и скажите ему, что его мать на своем смертном одре благословляла его не один, а тысячу раз».
Снова наступила пауза, и снова Пегготи нежно похлопала меня по руке.
– Был уже поздний час, когда она попросила пить, – продолжала Пегготи, – и, сделав несколько глотков, она, моя родная, так кротко мне улыбнулась… так хорошо.
Наступил рассвет, солнце уже всходило, и тут она стала мне рассказывать, как мистер Копперфилд был всегда терпелив с ней, заботлив и ласков и всегда говорил, когда она сомневалась в себе, что любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете, и что он счастлив с ней. «Пегготи, дорогая моя, придвиньтесь ко мне поближе, – прибавила она, так как была очень слаба. – Пусть ваша добрая рука обнимет меня за шею, и поверните меня к себе, потому что ваше лицо куда-то уплывает, а я хочу его видеть». Я уложила ее, как она просила… О Дэви! И вот наступило время, когда сбылись мои слова, которые я говорила вам на прощанье: ей снова захотелось приклонить свою головку на плечо глупой, ворчливой, старой Пегготи… И она скончалась, как засыпает дитя!
Так Пегготи закончила свой рассказ. С того момента, когда я узнал о смерти моей матери, воспоминание о том, какой она была в последнее время перед своей смертью, изгладилось из моей памяти. С того самого мгновения я видел ее всегда только совсем молодой, в пору моего раннего детства, видел, как она накручивает свои глянцевитые локоны на пальцы и танцует со мной в гостиной по вечерам. Рассказ Пегготи, вместо того чтобы напомнить о последнем периоде жизни моей матери, лишь закрепил в памяти прежний ее образ. Может быть, это странно, но это так. Скончавшись, моя мать унеслась ко дням своей спокойной, ничем не возмутимой юности и зачеркнула все остальное.
Мать, которая покоится в могиле, – это мать моего детства, а малютка в ее объятиях – это я, каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на груди.
Глава X
Сначала обо мне позабыли, а потом позаботились
Когда печальный день миновал и когда дневному свету был вновь открыт доступ в дом, мисс Мэрдстон сделала первый деловой шаг – предупредила Пегготи о том, что через месяц она увольняется. Как ни тяжела была для Пегготи эта служба, но, думаю, она осталась бы здесь ради меня, предпочитая ее самому выгодному месту. Она сообщила мне о предстоящей разлуке и о причине ее, и мы оба горевали от всей души.
– Раз вы это сказали, то, видите ли, я и приложил все силы… – продолжал молодой человек. – Может, вы изволите поглядеть?
– Погляжу, милый, – сказал мистер Омер, вставая. Тут он повернулся ко мне. – Не хотите ли посмотреть…
– Нет, не надо, отец! – перебила Минни.
– Я подумал, дорогая моя, что ему это будет приятно. Но, пожалуй, ты права.
Не знаю, почему я догадался, что они пошли поглядеть на гроб моей дорогой, моей горячо любимой матери. Я никогда не слышал, как сколачивают гробы. Я никогда еще не видел ни одного гроба. Но когда я услышал стук молотка, у меня мелькнула мысль о гробе, а как только молодой человек вошел, я уже твердо знал, что он мастерил.
Но вот работа была завершена, две девушки, чьих имен при мне не называли, стряхнули со своих платьев нитки и обрезки и пошли в лавку, чтобы, в ожидании заказчиков, привести ее в порядок. Минни осталась в комнате, чтобы сложить все, над чем они трудились, и упаковать в две корзины. Занималась она этим делом, стоя на коленях и напевая какую-то веселую песенку. Джорем – ее возлюбленный, в чем я не сомневался, – вошел в комнату, и пока она занималась делом, сорвал у нее поцелуй (не обращая на меня никакого внимания) и сказал, что отец пошел за повозкой, а ему надо поскорей все приготовить. Затем он вышел снова; Минни сунула в карман наперсток и ножницы, ловко воткнула иголку с черной ниткой в свой корсаж и быстро надела салоп и шляпку, глядясь в повешенное за дверью зеркальце, в котором я видел отражение ее улыбающегося личика.
Я наблюдал все это, сидя за столом в углу комнаты и подперев голову рукой, а думал я о самых различных предметах. Вскоре перед лавкой появилась повозка, сперва в нее поместили корзины, потом меня и, наконец, уселись трое остальных. Помнится, это была не то почтовая карета, не то фургон, в котором перевозят фортепьяно, окрашенный в темный цвет и запряженный вороной лошадью с длинным хвостом. Места в ней хватило для всех нас.
Не думаю, чтобы когда-либо в жизни (может быть, со временем я стал опытнее и умнее) я испытал чувство, подобное тому, какое испытывал в обществе этих людей, помня, чем они были раньше заняты, и видя, как они радуются поездке. Я на них не сердился: скорее всего я их боялся, словно очутился среди каких-то существ, с которыми от природы у меня нет ничего общего. Им было весело. Старик сидел впереди и правил лошадью, а молодые люди сидели за его спиной и, когда он к ним обращался, наклонялись к нему так, что их лица приходились по обе стороны его толстой физиономии, и, казалось, болтовня с ним очень их занимала. Они не прочь были поговорить и со мной, но я хмуро забился в свой угол; меня пугали их взаимные ухаживания и их смех, правда не очень громкий, и я едва ли не удивлялся, как это они не несут возмездия за свое жестокосердие.
Поэтому, когда они остановились, чтобы покормить лошадь, а сами пили и веселились, я не мог прикоснуться к тому, чего касались они, и не нарушил своего поста. И потому-то, когда мы доехали до дому, я поспешил выскочить сзади из повозки, чтобы не оказаться в их компании перед этими печальными окнами, взиравшими теперь на меня, как глаза слепца, некогда такие ясные. О, напрасно задумывался я в школе о том, что вызовет слезы у меня на глазах, когда я вернусь домой, – я в этом убедился, увидев окна комнаты матери и еще одно, рядом с ними, которое когда-то было моим окном!
Не успел я подойти к двери, как уже очутился в объятиях Пегготи, и она повлекла меня в дом. Ее горе прорвалось, как только она завидела меня, но скоро она взяла себя в руки, заговорила шепотом и пошла, неслышно ступая, словно можно было нарушить покой мертвеца! Я узнал, что уже очень много времени она не ложилась спать. Ночью она сидела неподвижно, не смыкая глаз. Пока ее бедную, милую красоточку не опустят в землю, она ни за что ее не покинет – так сказала она.
Мистер Мэрдстон не обратил на меня внимания, когда я вошел в гостиную, где он сидел в кресле перед камином, беззвучно плакал и о чем-то размышлял. Мисс Мэрдстон, что-то писавшая за своим письменным столом, покрытым письмами и бумагами, протянула мне кончики холодных пальцев и спросила металлическим шепотом, сняли ли с меня мерку для траурного костюма. Я ответил:
– Да.
– А ты привез домой свои рубашки? – спросила мисс Мэрдстон.
– Да, сударыня, я привез все мои вещи.
И это было все, что могла предложить мне, в виде утешения, эта твердая духом особа. Несомненно, она испытывала особое удовольствие, выставляя в данном случае напоказ все те качества, какие называла своим самообладанием, своей твердостью, своей силой духа, своим здравым смыслом, – словом, весь дьявольский каталог своих приятных свойств. Особенно она гордилась своей деловитостью и проявляла ее в том, что, ничем невозмутимая, не расставалась с пером и чернилами. Весь остаток дня и с утра до вечера на следующий день она просидела за своим письменным столом и скрипела очень твердым пером, разговаривая со всеми бесстрастным шепотом, и ни один мускул не дрогнул на ее лице, и ни на одно мгновение голос ее не стал мягче, и ничто в ее туалете не пришло в беспорядок.
Ее брат по временам брал книгу, но я не видел, чтобы он читал ее. Он раскрывал книгу и смотрел в нее так, что казалось, будто он читает, но в течение целого часа не переворачивал ни страницы, а затем откладывал ее в сторону и начинал ходить по комнате. Часами я сидел, скрестив руки, и наблюдал за ним, считая его шаги. Он очень редко обращался к сестре и ни разу не обратился ко мне. Во всем замершем доме только он один, если не считать часов, не знал покоя.
В эти дни до похорон я мало видел Пегготи; только спускаясь или поднимаясь по лестнице, я всегда находил ее перед комнатой, где лежала моя мать со своим младенцем, да вечерами она приходила ко мне и сидела у изголовья, пока я засыпал. За день или два до погребения – мне кажется, за день или два, но я могу спутать, когда речь идет об этом печальном времени, которое не было отмечено никакими событиями, – Пегготи повела меня в комнату моей матери. Я помню только, что мне казалось, будто под белым покрывалом на кровати – а вокруг была такая чистота и такая прохлада! – покоится воплощение торжественной тишины, царившей в доме. И когда Пегготи начала бережно приподнимать покрывало, я закричал:
– О нет! Нет!
И схватил ее за руку.
Я помню эти похороны так, будто они были вчера. Помню даже вид нашей парадной гостиной, когда я вошел туда, ярко пылающий камин, вино, сверкающее в графинах, бокалы и блюда, легкий сладковатый запах пирога, аромат, источаемый платьем мисс Мэрдстон, наши черные костюмы… Мистер Чиллип здесь, в комнате, он подходит ко мне.
– Как поживаете, мистер Дэвид? – ласково спрашивает он.
Я не могу ответить: «Очень хорошо». Я подаю ему руку, которую он задерживает в своей.
– Ох, боже мой! – говорит мистер Чиллип, кротко улыбаясь, а слезы блестят у него на глазах. – Наши юные друзья все растут и растут… Скоро мы их не узнаем, сударыня!
Эти слова обращены к мисс Мэрдстон, которая ничего не отвечает.
– Я вижу перемену к лучшему, сударыня. Не так ли? – говорит мистер Чиллип.
Мисс Мэрдстон только хмурит лоб и сухо кивает головой; мистер Чиллип, растерянный, уходит в угол комнаты, прихватив меня с собой, и больше не открывает рта.
Я замечаю это, ибо замечаю все, что происходит, но не потому, что я занят собой или занимался собой хотя бы минуту с той поры, как вернулся домой. Но вот звон колокола, входит мистер Омер и еще кто-то, чтобы закончить последние приготовления. Много лет назад, – как об этом не раз говорила мне Пегготи, – в той же самой гостиной собрались те, кто провожал к могиле, к той же самой могиле, моего отца.
Теперь здесь мистер Мэрдстон, наш сосед мистер Грейпер, мистер Чиллип и я. Когда мы подходим к двери, носильщики со своей ношей уже в саду. И они идут перед нами по тропинке, и мимо вязов, и к воротам, и входят на кладбище, где я так часто слушал летним утром пение птиц.
Мы стоим вокруг могилы. Мне кажется, что день не похож на все другие дни и свет совсем не такой – более печальный. Здесь торжественная тишина, которую мы принесли из дому вместе с тем, что покоится сейчас в сырой земле; мы стоим с обнаженными головами, и я слышу голос священника; он доносится словно издалека и звучит в чистом воздухе, отчетлив и внятен: «Аз есмь воскресение и жизнь, говорит Господь». И я слышу рыдания. И я вижу ее – она стоит в стороне среди зрителей, – верная и добрая служанка, которую я люблю больше всех на свете, и детское мое сердце уверено, что Господь скажет о ней: «Ты исполнила свой долг».
В кучке людей я узнаю много знакомых лиц – лиц, которые я видел в церкви, где всегда глазел по сторонам, лиц, которые знали мою мать, когда она приехала в эту деревню в расцвете своей юности. Я о них не думаю, я думаю только о своем горе, и все же я вижу и узнаю их всех; и я вижу даже там – вдали – Минни, которая посматривает на своего возлюбленного, стоящего около меня.
Но вот все кончено, могила засыпана землей, и мы уходим. Перед нами наш дом, он такой же красивый, он не изменился, но в моем детском сознании он так связан с мыслью о моей утрате, что горе, меня постигшее, ничто по сравнению с тем горем, которое я испытываю, глядя на него. Но меня ведут дальше, мистер Чиллип что-то говорит мне, и когда мы приходим домой, он дает мне выпить воды; когда я прошу у него позволения подняться в свою комнату, он прощается со мной ласково, как женщина.
Все это словно произошло вчера. Последующие события уплыли от меня к тем берегам, где забытое появится вновь; но тот день моей жизни встает передо мной, как высокий утес в океане.
Я знал, что Пегготи придет ко мне, в комнату. Воскресный покой этого дня (он так напоминал воскресенье, я забыл об этом сказать) соблюдался словно бы нарочито для нас двоих. Она села рядом со мной на моей кроватке, взяла мою руку и то нежно целовала ее, то поглаживала – так утешала бы она моего маленького братца – и рассказала на свой лад обо всем, что произошло.
– Уже давно она прихварывала, – рассказывала Пегготи. – На душе у нее было тревожно, и она не чувствовала себя счастливой. Когда у нее родился малютка, я было подумала, что ей как будто лучше, но она стала такой слабенькой и таяла с каждым днем. До рождения малютки она любила сидеть в одиночестве и часто плакала. А когда он родился, она напевала ему так нежно, что однажды мне почудилось, будто это райское пение, которое звучит где-то высоко-высоко в воздухе и уносится к небу.
В последнее время, мне кажется, она еще больше робела, ходила какая-то запуганная, и каждое грубое слово было для нее как удар. Но со мной она оставалась все такой же. Она, моя девочка, относилась по-прежнему к своей глупой Пегготи.
Тут Пегготи примолкла и тихонько похлопала меня по руке.
– В день вашего приезда, мой дорогой, я видела ее в последний раз такой, как в былые времена. Когда вы уехали, она сказала мне: «Я никогда больше не увижу моего любимого, милого мальчика. Что-то подсказывает мне это, и я знаю – это так».
Она изо всех сил старалась держаться, и часто, когда они упрекали ее, что она легкомысленная и беззаботная, делала вид, будто она и в самом деле такая; но она была уже совсем не такой. Своему мужу она никогда не говорила того, что сказала мне, – она боялась говорить об этом кому-нибудь, кроме меня, – но однажды вечером, за неделю до своей смерти, сказала ему: «Мой милый, мне кажется, я скоро умру».
В тот вечер, когда я укладывала ее в постель, она сказала мне: «Теперь у меня на душе спокойно, Пегготи. За те несколько дней, которые остались, он, бедный, свыкнется с этой мыслью, а потом все уже будет кончено. Я очень устала. Если я засну, посидите возле меня, пока я буду спать; не уходите от меня. Господь да благословит обоих моих мальчиков! Господь да поможет моему сыну, потерявшему отца!»
– После этого дня я от нее не отходила, – продолжала Пегготи. – Она часто беседовала с теми двумя, которые жили внизу, она их любила, потому что она ведь любила всех, кто был возле нее, но когда они отходили от ее постели, она поворачивалась ко мне, как будто ей было покойно только рядом с Пегготи; и никогда она не засыпала без меня.
В последний вечер она поцеловала меня и сказала: «Если мой малютка тоже умрет, Пегготи, пожалуйста, пусть его положат в мои объятия и похоронят нас вместе. (Так это и было сделано, потому что бедный крошка пережил ее только на один день.) И пусть дорогой мой Дэви проводит нас к месту нашего упокоения, и скажите ему, что его мать на своем смертном одре благословляла его не один, а тысячу раз».
Снова наступила пауза, и снова Пегготи нежно похлопала меня по руке.
– Был уже поздний час, когда она попросила пить, – продолжала Пегготи, – и, сделав несколько глотков, она, моя родная, так кротко мне улыбнулась… так хорошо.
Наступил рассвет, солнце уже всходило, и тут она стала мне рассказывать, как мистер Копперфилд был всегда терпелив с ней, заботлив и ласков и всегда говорил, когда она сомневалась в себе, что любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете, и что он счастлив с ней. «Пегготи, дорогая моя, придвиньтесь ко мне поближе, – прибавила она, так как была очень слаба. – Пусть ваша добрая рука обнимет меня за шею, и поверните меня к себе, потому что ваше лицо куда-то уплывает, а я хочу его видеть». Я уложила ее, как она просила… О Дэви! И вот наступило время, когда сбылись мои слова, которые я говорила вам на прощанье: ей снова захотелось приклонить свою головку на плечо глупой, ворчливой, старой Пегготи… И она скончалась, как засыпает дитя!
Так Пегготи закончила свой рассказ. С того момента, когда я узнал о смерти моей матери, воспоминание о том, какой она была в последнее время перед своей смертью, изгладилось из моей памяти. С того самого мгновения я видел ее всегда только совсем молодой, в пору моего раннего детства, видел, как она накручивает свои глянцевитые локоны на пальцы и танцует со мной в гостиной по вечерам. Рассказ Пегготи, вместо того чтобы напомнить о последнем периоде жизни моей матери, лишь закрепил в памяти прежний ее образ. Может быть, это странно, но это так. Скончавшись, моя мать унеслась ко дням своей спокойной, ничем не возмутимой юности и зачеркнула все остальное.
Мать, которая покоится в могиле, – это мать моего детства, а малютка в ее объятиях – это я, каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на груди.
Глава X
Сначала обо мне позабыли, а потом позаботились
Когда печальный день миновал и когда дневному свету был вновь открыт доступ в дом, мисс Мэрдстон сделала первый деловой шаг – предупредила Пегготи о том, что через месяц она увольняется. Как ни тяжела была для Пегготи эта служба, но, думаю, она осталась бы здесь ради меня, предпочитая ее самому выгодному месту. Она сообщила мне о предстоящей разлуке и о причине ее, и мы оба горевали от всей души.