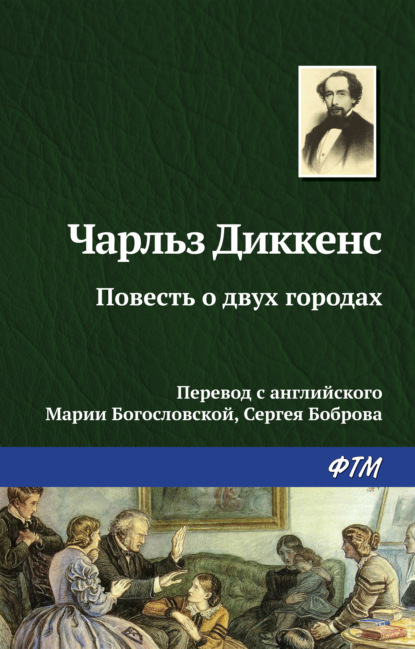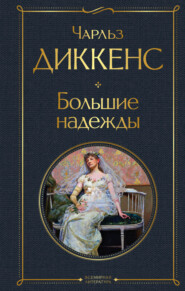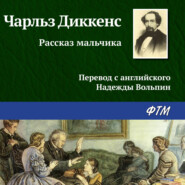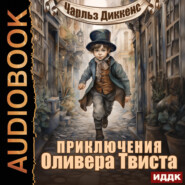По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повесть о двух городах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мне один пассажир нужен, который там.
– Какой пассажир?
– Мистер Джарвис Лорри.
Знакомый нам пассажир тотчас же отозвался, услышав это имя. Кондуктор, кучер и оба других пассажира смотрели на него с недоверием.
– Стой на месте! – гаркнул кондуктор голосу из тумана. – А то как бы мне не ошибиться, и тогда прости-прощай! – пули назад не воротишь! Джентльмен, называющий себя Лорри, отвечайте ему.
– В чем дело? – спросил пассажир слегка прерывающимся голосом. – Кто меня спрашивает? Это вы, Джерри?
(– Не нравятся мне голос этого Джерри, ежели он взаправду Джерри, – пробормотал себе под нос кондуктор, – с чего это он так осип, этот Джерри?)
– Я самый, мистер Лорри.
– А что случилось?
– Депеша вам. Вот меня и послали вдогонку, Теллсон и компания.
– Я знаю нарочного, кондуктор, – сказал мистер Лорри, сходя с подножки, в чем ему не столько услужливо, сколько поспешно помогли стоявшие рядом пассажиры, после чего они, один за другим, втиснулись в карету, захлопнули дверцу и подняли окошко. – Пусть подъедет, можете не опасаться.
– Надо бы полагать, да кто его знает! Попробуй, поручись за него, – проворчал кондуктор. – Эй, ты там!
– Это вы меня, что ли? – откликнулся Джерри еще более хриплым голосом.
– Шагом подъезжай, слышишь, что я говорю? А ежели у тебя кобуры при седле, держи руки подальше, а то вдруг мне что померещится, выпалю невзначай, вот тебе и вся недолга!.. А ну, покажись, что ты за птица.
Фигуры лошади и всадника выступили из клубящегося тумана и медленно приблизились к карете с той стороны, где стоял пассажир. Всадник остановил коня и, косясь на кондуктора, протянул пассажиру сложенную вчетверо бумажку. Конь был весь в мыле, и оба – и конь и всадник – были с ног до головы покрыты грязью.
– Кондуктор! – промолвил пассажир спокойным, деловым и вместе с тем доверительным тоном.
Кондуктор – все так же настороже, зажав правой рукой ствол приподнятого мушкета, а левую держа на курке и не спуская глаз со всадника, ответил коротко:
– Сэр?
– Можете не опасаться. Я служу в банкирской конторе Теллсона – вы, конечно, знаете банк Теллсона в Лондоне? Я еду в Париж по делам. Вот вам крона на чай. Могу я прочесть депешу?
– Ну, ежели так, читайте скорей, сэр.
Тот развернул депешу и при свете каретного фонаря прочел сперва про себя, а потом вслух: «В Дувре подождите мадемуазель…»
– Ну, вот и готово, кондуктор. Джерри, передайте мой ответ: «Возвращен к жизни». Джерри подскочил в седле.
– Чертовски непонятный ответ, – промолвил он совершенно осипшим голосом.
– Так и передайте. Там поймут, что я получил записку, все равно как если бы я расписался. Ну, желаю вам поскорей добраться. Прощайте.
И с этими словами пассажир открыл дверцу и поднялся в карету. На сей раз его дорожные спутники и не подумали прийти ему на помощь; за это время они успели припрятать свои часы и кошельки, засунув их в сапоги, и теперь оба прикинулись спящими. При этом они руководились только одним соображением: как бы чего не вышло.
Карета снова загромыхала в темноте, и клочья тумана, сгущаясь, окутывали ее по мере того, как она спускалась вниз по склону.
Кондуктор уложил свой мушкет в оружейный ящик, проверил, все ли на месте, потом осмотрел запасные пистолеты у себя за поясом, а заодно и небольшой сундучок под сиденьем, где хранились кое-какие инструменты, два факела и коробочек с трутом. Все это было припасено у него на тот случай, если в сильную непогоду задует ветром фонари, – а это случалось не раз, – тогда ему нужно было только примоститься внутри дилижанса, закрывшись хорошенько от ветра и поглядывая, чтобы искры не залетели в солому на полу, пустить в ход кремень и огниво, при помощи чего за какие-нибудь пять минут (если повезет) можно высечь огонь.
– Том! – тихонько окликнул он кучера поверх кареты.
– Чего тебе, Джо?
– Ты слышал его ответ нарочному?
– Слышал, Джо.
– А что это, по-твоему, значит, Том?
– Да ровно ничего, Джо.
– Надо же такое совпадение, – подивился про себя кондуктор, – ну, как есть то же самое и я подумал.
Между тем Джерри, оставшись один в темноте и тумане, сошел с коня – и не только за тем, чтобы дать отдых выбившемуся из сил животному, но и чтобы самому стереть грязь с лица и отряхнуть свою шляпу, на полях которой набралось примерно с полгаллона воды. Потом, намотав поводья на руку, забрызганную грязью до самого плеча, он постоял и, дождавшись, когда колеса дилижанса затихли вдали и кругом снова наступила тишина, зашагал вниз с холма.
– После этакой скачки от самого Тэмпл-Бара я не поручусь за твои передние ноги, старуха, покуда мы не выйдем с тобой на ровное место, – прохрипел он, оглядывая свою кобылу. – «Возвращен к жизни»… Ну и ну! вот так ответ! А ежели оно и впрямь так бывает, пропало твое дело, Джерри! Да, есть над чем задуматься, Джерри. Черт знает, чем это для тебя кончится, ежели у нас теперь в обычай войдет – покойников воскрешать!
Глава III
Тени ночные
Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непостижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город, невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они и останутся тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью.
Милая книга, которая меня так пленила, не откроет мне больше своих страниц, и напрасно я льщу себя надеждой прочитать ее когда-нибудь до конца. Никогда больше не проникнет мой взор в бездонную глубину этих вод, которая лишь на миг открылась мне, пронизанная солнечным светом, и в блеске лучей мелькнули предо мной погребенные в ней сокровища. Так было предначертано, чтобы эта книга внезапно захлопнулась раз и навсегда, а я только успел прочесть в ней одну-единственную страницу. Так было предначертано, чтобы эта водная гладь, внезапно озаренная солнечным светом, покрылась льдом, в то время как я стоял, ничего не подозревая, на берегу. Мой друг умер., умер мой сосед, радость сердца моего, возлюбленная моя умерла, – и вот уже навсегда скреплена и запечатлена нерушимо эта тайна, которую носит в себе каждый из нас, и я ношу и буду носить до скончания дней. Но разве спящие на кладбище этого города, через который я проезжаю, представляют собой большую загадку, нежели его бодрствующие жители, души коих скрыты от меня так же, как и моя от них.
Сей непостижимой особенностью, заложенной в человеке природой и неотъемлемой от него, был наделен и верховой гонец, в не меньшей мере, нежели сам король, или его первый министр, или богатейший лондонский купец. Точно так же и трое пассажиров, прикорнувших бок о бок в наглухо закрытом кузове старого разбитого дилижанса, – каждый из них представлял собой полнейшую тайну для другого, и все они были до такой степени недоступны друг другу, как если бы каждый ехал в своей собственной карете шестериком – и даже шестидесятериком – и все земли графства отделяли бы его от других.
Гонец ехал обратно не торопясь, частенько останавливался у придорожных харчевен промочить горло; однако он не обнаруживал склонности вступать в разговоры и даже надвигал шляпу пониже на глаза; а глаза у него были под стать головному убору, – такого же черного цвета, тусклые, лишенные глубины, и сидели они так близко один к другому, точно побаивались, как бы их не изловили поодиночке, если они отодвинутся друг от друга чуть подальше. Они мрачно поглядывали из-под старой треуголки, напоминавшей треугольную плевательницу, и поверх толстого шейного платка, обмотанного вокруг подбородка и горла и спускавшегося чуть ли не до колен. Останавливаясь промочить глотку, гонец высвобождал подбородок, придерживая платок левой рукой, пока правой вливал в себя жидкость, а потом снова поднимал его до ушей.
– Нет, Джерри, нет! Это, брат, совсем неподходящее дело, – рассуждал он сам с собой всю дорогу, поглощенный, по-видимому, какой-то одной неотвязной мыслью. – Куда же это годится при нашем с тобой честном промысле… «Возвращен к жизни!» Тьфу, дьявольщина, это он, должно быть, спьяну сболтнул!
Ответ, который ему поручили передать, по-видимому, вызвал у него такое смятение в мозгах, что он то и дело хватался за шляпу, чтобы поскрести в затылке. Голова его, за исключением совершенно голой макушки, была сплошь покрыта жесткими черными волосами, торчащими во все стороны, точно проволока, и начинавшими расти чуть ли не от самого основания его толстого приплюснутого носа. Похоже было, что волосы ему изготовили в кузнице, до того они напоминали утыканную остриями ограду; даже самый ловкий прыгун не решился бы играть с ним в чехарду; ибо прыгать через такой частокол показалось бы ему крайне рискованным.
Между тем как гонец ехал неторопливой рысцой, твердя про себя устный ответ, который он должен был передать ночному сторожу, караулившему в будке у ворот банка Теллсона близ Тэмпл[10 - Тэмпл («Храм») – группа средневековых зданий, построенных орденом тэмплиеров («храмовников»); образуют квартал в центре Лондона, где с давних пор находились школы законоведения, юридические корпорации и адвокатские конторы. Тэмпл пользовался особыми правами и не подчинялся городским властям.]-Бара, с тем чтобы тот передал его высшему начальству в конторе, ночные тени, сгущаясь кругом, принимали очертания призраков, вырастающих из этого загадочного ответа, а для его кобылы они принимали очертания чего-то выраставшего из ее собственных страхов. И, должно быть, их было такое множество, что она то и дело шарахалась в сторону от каждого придорожного куста.
А почтовая карета между тем громыхала, покачиваясь, подскакивая и дребезжа, и продолжала свой унылый путь с тремя взаимонепроницаемыми седоками в наглухо закрытом кузове. И перед ними тоже клубились ночные тени, облекаясь в причудливые виденья, которые вставали пред их смежающимися очами или мерещились им в полусне. Банк Теллсона играл немалую роль в этих виденьях. Пассажир – служащий этого банка – сидел, просунув руку в ремни своего саквояжа, который, при сильных толчках, не позволял ему наваливаться всем телом на соседа, а удерживал его на месте; он дремал, полузакрыв глаза, и передние оконца кареты, и тускло поблескивавший в них свет фонаря, и бесформенная закутанная фигура сидящего напротив пассажира – все это вдруг превращалось в банкирскую контору с кипучей деловой жизнью. Конская сбруя побрякивала, как звонкая монета, которой – за какие-нибудь пять минут – выплачивались по чекам такие суммы, каких банку Теллсона, при всей его заграничной и отечественной клиентуре, вряд ли случалось выплачивать даже и за четверть часа: глазам его открывались подвалы банка со всеми запечатанными в сейфах сокровищами и тайнами, о которых нашему пассажиру было кое-что известно (а ему было многое известно), и он ходил по этим подвалам, позвякивая громадными ключами, держа в руке еле мерцавшую свечу, и убеждался, что все заперто прочно, надежно, все цело и неприкосновенно, как было, когда он приходил сюда в последний раз.
Но хотя банк неизменно присутствовал во всех его виденьях и почтовая карета (словно смутное ощущение боли, заглушенной усыпляющим средством) тоже присутствовала в них, – что-то еще другое вклинивалось в эти видения и неотступно преследовало его всю ночь. Он едет откапывать кого-то из могилы.
Какое лицо в бесконечной веренице лиц, мелькавших в сновиденьях пассажира, было подлинным лицом того самого погребенного человека, – ночные тени не открыли ему; но все они были почти что на одно лицо, – лицо сорокапятилетнего человека, – и различались главным образом чувствами, которые были на них написаны, да большей или меньшей мертвенностью болезненно изможденных черт. Гордость, презрение, вызов, упрямство, смирение, мольба – вот чувства, которые, сменяясь одно другим, изменяли это лицо; изменяли и впалые щеки, и кожу землистого цвета, и иссохшие руки, и весь этот жалкий облик. Но, в сущности, это все время было одно и то же лицо, оно появлялось снова и снова, и голова всякий раз была преждевременно седая. И в сотый раз дремлющий пассажир обращался к призраку с одним и тем же вопросом:
– Вас давно похоронили?
И ответ был всегда один и тот же: