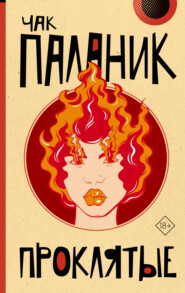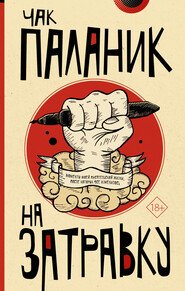По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Невидимки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сестра Кэтрин говорит:
– Ты можешь переписываться с мужчинами, которые сидят в тюрьме. Им все равно, как ты выглядишь.
Объяснять ей в письменном виде, что я испытываю в данный момент, мне просто не охота. На это уйдет слишком много времени и сил.
Я хлебаю свой супчик, а сестра Кэтрин зачитывает мне вслух некоторые из объявлений. На ее взгляд, предпочтение стоит отдать поджигателям. Или ворам-взломщикам. Или неплательщикам налогов.
Она говорит:
– Вступать в связь с насильником у тебя наверняка нет никакого желания. Эти люди безнадежно испорчены.
Произнеся речь об одиноких мужчинах за решеткой, посаженных за вооруженное ограбление и непредумышленное убийство, она вдруг замолкает и спрашивает, что со мной. Потом берет мою руку и глядит на пластмассовый браслет с именем у меня на запястье, словно разговаривает с ним.
«Эх ты, модель рук! – думаю я со злобной иронией. – Побрякушки, которые ты рекламируешь, так прекрасны, что сама господня невеста не может отвести от них взгляда!»
Сестра Кэтрин спрашивает:
– Что ты чувствуешь?
Какая потеха!
Она продолжает:
– Неужели тебе совсем не хочется влюбиться?
Фотограф в моей голове говорит:
Покажи мне терпение.
Вспышка.
Покажи мне самообладание.
Вспышка.
Все дело в том, что у меня всего лишь половина лица.
А на ватных тампонах под бинтами, приложенных к моей ране, до сих пор появляются новые, хоть и очень маленькие, пятна крови. Один из докторов – он совершает утренний обход и каждый день проверяет мою повязку – говорит, что рана до сих пор кровоточит.
Я по сей день не могу разговаривать.
Я должна забыть о карьере.
Я питаюсь лишь детскими смесями. И никто никогда больше не посмотрит на меня как на лауреата государственной премии.
Я пишу на листе бумаги:
со мной все в порядке.
все хорошо.
– Ты ведь даже как следует не погоревала, – говорит сестра Кэтрин. – Тебе не помешает хорошенько поплакать. А потом смириться со своей участью. Ты ведешь себя слишком спокойно.
Я пишу:
не смеши меня мое лицо, если я заплачу, вообще расплывется так считает доктор.
Вообще-то я рада. Наконец хоть кто-то это заметил. Все это время я сохраняла нечеловеческое спокойствие. Можно сказать, я была самим олицетворением невозмутимости. Я ни на мгновение не поддалась панике. Я видела собственную кровь, и сопли, и то, как осколки моих раскрошившихся зубов ударяются о приборную доску, но в истерику не впадала. Выкидывать подобные номера бессмысленно, если поблизости нет аудитории. Паникерствовать наедине с самим собой – все равно что хохотать, закрывшись в пустой комнате. Так может поступить разве что ненормальный.
Как только авария произошла, я сразу поняла, что умру, если не съеду с автострады, не поверну направо и, проехав двенадцать кварталов, не зарулю на парковочную площадку отделения неотложной помощи «Мемориальной больницы Ла-Палома».
Я сделала все вышеперечисленное. Потом взяла ключи и сумку, вышла из машины и направилась ко входу. Стеклянные двери разъехались передо мной прежде, чем я успела заметить в них свое отражение. А народ, толпившийся у кабинета врача – тут были и люди со сломанными ногами, и мамаши, качавшие захлебывающихся от крика младенцев, – завидев меня, все они безмолвно расступились.
Потом был морфий внутривенно, малюсенькие операционные ножницы, разрезавшие мое платье. Трусики телесного цвета, которые, по сути дела, всего лишь лоскутик с пришитыми к нему эластичными веревками. Фотографии, сделанные полицией…
Агент сыскной полиции, тот самый, который обследовал мою машину на наличие фрагментов костей и тому подобного, который помнит десятки случаев, когда в катастрофах автомобилистам отрезало голову, однажды вновь приходит ко мне и сообщает, что больше ничего не сможет сделать. В мою машину, оставленную на парковочной площадке, через разбитое стекло залетели птицы. Чайки. Возможно, еще и сороки. Они склевали все, что у детективов называется доказательствами «мягких тканей». А фрагменты костей скорее всего унесли с собой.
– Вам известно, мисс, что эти твари делают с костями? – спрашивает сыщик. – Бьют их о скалы, чтобы получить костный мозг.
Я пишу карандашом на листе бумаги:
ха, ха, ха.
Перенесемся в тот момент, когда мои бинты вот-вот должны снять. Логопед сказала, что я обязана на коленях благодарить Господа за то, что он оставил невредимым мой язык. Мы сидим в ее кабинете, который наполовину заполнен столом из стали, и она, логопед, объясняет мне, каким образом, не двигая губами, произносят слова чревовещатели. Им важно произвести впечатление, что звуки исходят у них изнутри, поэтому они прижимают язык к нёбу и так разговаривают.
Вместо окна в кабинете логопеда плакат. На нем изображен котенок, заваленный спагетти, а внизу подпись:
Ставь акцент на позитивном.
Логопед говорит, что, если ты не можешь произнести тот или иной звук без помощи губ, замени его похожим звуком. Например, поясняет она, вместо «фэ», говори «хэ». О значении слова, в котором ты производишь эту замену, догадаются по смыслу.
– Я хочу посмотреть новые хотограхии, – говорит логопед.
Я пишу на бумаге:
посмотрите.
– Да нет же, – отвечает она. – Тебе следует попытаться повторить за мной.
В последнее время мое горло постоянно сухое. Сколько бы в него ни вливали жидкости. Покрывшаяся тонкой пленкой поврежденная область вокруг языка жутко чешется.
Логопед повторяет:
– Я хочу посмотреть хотограхии.
Я изрекаю:
– Галгхрэ иоиг хихои кдки.