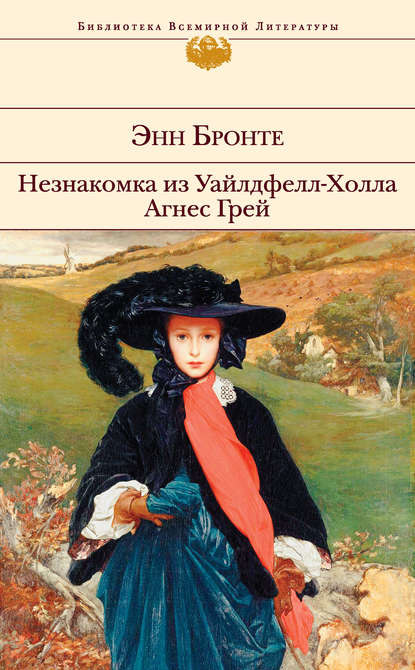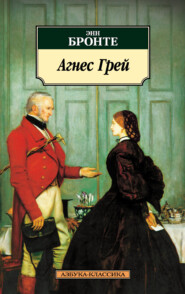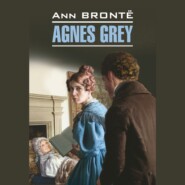По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незнакомка из Уайлдфелл-Холла. Агнес Грей
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я, миссис Маркхем? – воскликнул он. – Вы ошибаетесь, я не… то есть я, разумеется, видел миссис Грэхем, но рассказать не могу ничего.
Он тут же повернулся к Розе и попросил ее развлечь общество романсом или сыграть что-нибудь.
– Нет, – ответила она. – Об этом попросите мисс Уилсон. Она и поет, и играет несравненно лучше нас всех.
Мисс Уилсон начала отнекиваться.
– Да споет она, споет! – вмешался Фергес. – Если вы, мистер Лоренс, возьметесь переворачивать ноты.
– С большим удовольствием. Мисс Уилсон, вы окажете мне такую честь?
Она изогнула лебединую шею, улыбнулась и позволила ему подвести себя к инструменту. А затем принялась играть и петь со всем блеском, на какой была способна. Он же, терпеливо опираясь на спинку ее стула, переворачивал лист за листом нотные тетради и менял их по ее просьбе. Быть может, он получал от ее игры и пения не меньшее удовольствие, чем она сама, но не скажу, чтобы мне они так уж нравились, хотя ее манера исполнения была по-своему и очень недурна – умелая, выразительная… и без малейшего чувства.
Однако с миссис Грэхем мы еще не покончили.
– От вина я откажусь, миссис Маркхем, – сказал мистер Миллуорд, когда подали вино. – Лучше налейте мне вашего домашнего эля. Я его предпочитаю всем другим напиткам.
Весьма польщенная таким комплиментом, матушка дернула сонетку и вскоре перед достойным пастырем уже стоял фарфоровый кувшин нашего лучшего эля, тонким ценителем которого он был.
– Вот питье так питье! – вскричал он, ловко наклоняя кувшин так, что струя лилась точно в стакан и весело пенилась. На стол при этом не пролилось ни капли. Затем стакан был поднят к свече, священник полюбовался его содержимым, осушил одним огромным глотком, одобрительно причмокнул, перевел дух и снова его наполнил под одобрительным взором моей матушки.
– Нет, с ним ничто не сравнится, миссис Маркхем! – сказал он. – Я так всюду и говорю: с вашим домашним элем ничто не сравнится!
– На здоровье, сэр! Я ведь варкой всегда сама распоряжаюсь. И как сыр варят, и как масло сбивают, тоже приглядываю. Если уж что делать, так как следует, вот что я вам скажу.
– Вы совершенно правы, миссис Маркхем. Совершенно правы.
– Но, мистер Миллуорд, ведь ничего дурного нет в том, чтобы иной раз выпить винца или даже чего-нибудь покрепче, правда? – спросила матушка, подавая стопку джина с водой миссис Уилсон, которая пожаловалась, что вино тяжело ложится ей на желудок. (Ее сын Роберт, перехватив бутылку, налил себе чистого джина.)
– Ну разумеется, – ответил оракул, величественно кивнув. – Все это блага и дары Провидения, только не надо ими злоупотреблять.
– А вот миссис Грэхем так не думает. Вы бы послушали, что она нам тут наговорила! Я ее тогда же предупредила, что посоветуюсь с вами.
И матушка незамедлительно познакомила общество с заблуждениями упомянутой дамы касательно употребления спиртных напитков, заключив свое повествование вопросом:
– Ведь, по-вашему, это неверно, ведь так?
– Неверно? – повторил священник с особой торжественностью. – Преступно, вот что это! Преступно. Она же не только тиранит мальчика, но презирает дарованные нам блага и учит его попирать их ногами!
Он вошел во вкус и принялся подробно растолковывать всю опасность и кощунственность подобных взглядов. Матушка внимала ему с глубочайшим благоговением, и даже миссис Уилсон снизошла до того, что дала отдохнуть своему языку, и слушала молча, мирно прихлебывая джин. Мистер Лоренс, положив локти на стол, поигрывал недопитой рюмкой и чему-то улыбался.
– Но согласитесь, мистер Миллуорд, – сказал он, когда преподобный джентльмен прервал наконец свою проповедь, чтобы перевести дух, – что в тех случаях, когда в ребенке заложена склонность к неумеренности, например, по вине его родителей и дедов, некоторые меры предосторожности могут оказаться нелишними? (Следует объяснить, что, по слухам, отец Лоренса сократил свой жизненный срок неумеренным пристрастием к крепким напиткам.)
– Возможно, возможно, но умеренность – это одно, сэр, а полное воздержание – совсем другое!
– Но я слышал, что есть люди, неспособные вовремя остановиться. Если полное воздержание – и зло, хотя многие в этом сомневаются, то злоупотребление – еще большее зло, этого отрицать нельзя. Некоторые родители строго-настрого запрещают своим детям даже пригубливать спиртные напитки. Но родительская власть не беспредельна, дети склонны тянуться к запретному плоду. А в подобном случае у ребенка не может не пробудиться сильного желания попробовать то, что другие так хвалят и любят, то, что для него находится под запретом, и при первом же удобном случае он это желание удовлетворит, последствия же такого нарушения могут быть чрезвычайно серьезны. Я не считаю себя судьей в подобных вопросах, но мне кажется, что план миссис Грэхем, о котором вы рассказали, миссис Маркхем, обладает немалыми достоинствами, несмотря на всю его странность. Ведь мальчик сразу же избавляется от соблазна. Его не мучает тайное любопытство, не снедает нетерпеливое желание попробовать соблазнительные напитки – ведь он уже хорошо с ними знаком и успел проникнуться к ним отвращением, нисколько не пострадав от вредных их свойств.
– И это хорошо, сэр? Разве я не доказал вам, насколько дурно, насколько противно Писанию и разуму учить ребенка смотреть с презрением и отвращением на дары Провидения, вместо того чтобы пользоваться ими в меру?
– Возможно, сэр, вы считаете опий даром Провидения, – возразил с улыбкой мистер Лоренс, – но, согласитесь, вряд ли многим следует употреблять его, даже в умеренности. Однако, – добавил он, – мне не хотелось бы, чтобы вы приняли мое уподобление слишком буквально, а потому я допью свою рюмку.
– И выпьете еще одну, мистер Лоренс? – сказала матушка, подталкивая к нему бутылку.
Но он мягко отказался, чуть-чуть отодвинулся от стола, откинулся на спинку, обернулся ко мне (мы с Элизой Миллуорд сидели на диване позади него) и небрежно спросил, знаком ли я с миссис Грэхем.
– Я видел ее раза два.
– И что вы о ней думаете?
– Не скажу, что она мне очень понравилась. Она красива, а вернее сказать, обладает благородной и интересной внешностью, но далеко не любезна, склонна, как мне кажется, к нетерпимости и, раз составив какое-то мнение, будет отстаивать его любой ценой вопреки очевидности, насильственно приводя все в согласие со своими предубеждениями. Нет, на мой вкус в ней слишком много ожесточенности, умничания и едкости.
Он промолчал, отвел глаза и закусил нижнюю губу, а через минуту-другую встал и направился к мисс Уилсон, которая, полагаю, влекла его к себе столь же сильно, как я отталкивал. В то время я не придал его словам ни малейшего значения, но впоследствии вспомнил их вместе с множеством таких же пустяков, когда… Но не буду забегать вперед.
Вечер мы заключили танцами – наш достойный пастырь не счел, что подобное развлечение в его присутствии неуместно, хотя мы даже наняли деревенского скрипача. Однако Мэри Миллуорд не пожелала к нам присоединиться, как и Ричард Уилсон, хотя матушка всячески его уламывала и даже обещала сама быть его дамой.
Впрочем, мы прекрасно обходились без них. После кадрили начались контрдансы, время летело незаметно, и был уже довольно поздний час, когда я крикнул скрипачу, чтобы он заиграл вальс. Но прежде чем я успел закружить Элизу в этом восхитительном танце, а Лоренс с Джейн Уилсон и Фергес с Розой – последовать нашему примеру, мистер Миллуорд остановил нас:
– Нет-нет, этого я не допущу! Да уже пора и по домам.
– Ну, папочка! – жалобно сказала Элиза.
– Время позднее, девочка, нам пора! Помни, умеренность и послушание во всем. Ведь сказано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам!»
В отмщение я последовал за Элизой в тускло освещенную прихожую и, делая вид, будто помогаю ей накинуть шаль, боюсь, сорвал быстрый поцелуй за спиной ее родителя, пока он укутывал шею и подбородок толстым шарфом. Но, увы! Обернувшись, я узрел перед собой матушку. И, едва наши гости удалились, был подвергнут суровому выговору, который угасил мою веселость и испортил все удовольствие от вечера.
– Мой дорогой Гилберт! – сказала она. – Зачем ты так себя ведешь? Ты ведь знаешь, как близко к сердцу я принимаю твое благо, как я люблю и ценю тебя превыше всего в мире, как надеюсь увидеть тебя преуспевающим, счастливо устроенным в жизни и каким горем для меня будет, если ты женишься на этой девчонке, да и на любой другой в здешних местах. Что ты в ней видишь, я просто понять не могу! Нет, я не только о том, что у нее нет за душой ни гроша. Ни красоты, ни благоразумия, ни добрых душевных качеств – ну, словом, ничего хорошего. Если бы ты знал себе цену, как знаю я, ты и думать о ней не стал бы. Подожди немножко, и сам увидишь! Если будешь и дальше слеп к тому, какова она на самом деле, то придется тебе всю жизнь раскаиваться, когда откроешь глаза и увидишь, сколько вокруг куда более достойных девиц. Помяни мое слово!
– Ах, мама, ну довольно же! Терпеть не могу нотаций. Жениться я пока не собираюсь, ты же знаешь. Но неужели мне и поразвлечься нельзя?
– Можно, милый мой мальчик, конечно, можно. Но только по-другому. А так вести себя нельзя. Будь она хорошей девушкой, ты ее оскорбил бы. Но она-то – хитрая дрянь, уж поверь мне, и ты опомниться не успеешь, как угодишь в ловушку. А если ты все-таки женишься на ней, Гилберт, то разобьешь мое сердце, так ты и знай!
– Да не плачь же, мама, – сказал я, потому что у нее из глаз уже покатились слезы. – Дай-ка я тебя поцелую и сотру тот поцелуйчик. Не брани Элизу и успокойся. Обещаю тебе, что я никогда… То есть что я хорошенько подумаю, прежде чем решиться на то, чего ты серьезно не одобряешь.
С этими словами я зажег мою свечу и отправился к себе в сильном унынии.
Глава V
Мастерская
Только под конец ноября я все-таки сдался на просьбу Розы и согласился отправиться с ней в Уайлдфелл-Холл. К нашему удивлению, первое, что мы увидели, когда нас ввели в комнату, был мольберт, возле которого стоял стол, заваленный свернутыми в трубку холстами, пузырьками с лаком, кистями, красками и еще всякой всячиной. Лежала там и палитра. К стене были прислонены незаконченные наброски и несколько завершенных картин – почти только пейзажи, некоторые с фигурами.
– Я должна извиниться, что принимаю вас у себя в мастерской, – сказала миссис Грэхем. – Но в гостиной камин не затоплен, а сегодня холодно, и нам было бы там неуютно.
Освободив два стула от холстов, она пригласила нас сесть, а сама вернулась на свое место у мольберта и во время разговора иногда поворачивалась к нему и даже делала мазок-другой, словно была не в силах совсем отвлечься от новой картины и сосредоточить внимание на гостях. Это был вид Уайлдфелл-Холла на заре с нижнего луга – его темная громада четко вырисовывалась на фоне серебристо-голубого неба с двумя-тремя алыми полосками у горизонта. Верность натуре не оставляла желать ничего лучшего, и написана картина была с большим вкусом.
– Как вижу, вам трудно оторваться от вашей работы, миссис Грэхем, – сказал я. – Умоляю вас, продолжайте, иначе мы окажемся в положении непрошеных и назойливых посетителей!
– Нет-нет! – ответила она, бросая кисть на стол, словно внезапно вспомнив о требованиях вежливости. – Мой дом не так уж часто осаждают визитеры, чтобы я не нашла нескольких минут для тех, кто потрудился навестить меня.
Он тут же повернулся к Розе и попросил ее развлечь общество романсом или сыграть что-нибудь.
– Нет, – ответила она. – Об этом попросите мисс Уилсон. Она и поет, и играет несравненно лучше нас всех.
Мисс Уилсон начала отнекиваться.
– Да споет она, споет! – вмешался Фергес. – Если вы, мистер Лоренс, возьметесь переворачивать ноты.
– С большим удовольствием. Мисс Уилсон, вы окажете мне такую честь?
Она изогнула лебединую шею, улыбнулась и позволила ему подвести себя к инструменту. А затем принялась играть и петь со всем блеском, на какой была способна. Он же, терпеливо опираясь на спинку ее стула, переворачивал лист за листом нотные тетради и менял их по ее просьбе. Быть может, он получал от ее игры и пения не меньшее удовольствие, чем она сама, но не скажу, чтобы мне они так уж нравились, хотя ее манера исполнения была по-своему и очень недурна – умелая, выразительная… и без малейшего чувства.
Однако с миссис Грэхем мы еще не покончили.
– От вина я откажусь, миссис Маркхем, – сказал мистер Миллуорд, когда подали вино. – Лучше налейте мне вашего домашнего эля. Я его предпочитаю всем другим напиткам.
Весьма польщенная таким комплиментом, матушка дернула сонетку и вскоре перед достойным пастырем уже стоял фарфоровый кувшин нашего лучшего эля, тонким ценителем которого он был.
– Вот питье так питье! – вскричал он, ловко наклоняя кувшин так, что струя лилась точно в стакан и весело пенилась. На стол при этом не пролилось ни капли. Затем стакан был поднят к свече, священник полюбовался его содержимым, осушил одним огромным глотком, одобрительно причмокнул, перевел дух и снова его наполнил под одобрительным взором моей матушки.
– Нет, с ним ничто не сравнится, миссис Маркхем! – сказал он. – Я так всюду и говорю: с вашим домашним элем ничто не сравнится!
– На здоровье, сэр! Я ведь варкой всегда сама распоряжаюсь. И как сыр варят, и как масло сбивают, тоже приглядываю. Если уж что делать, так как следует, вот что я вам скажу.
– Вы совершенно правы, миссис Маркхем. Совершенно правы.
– Но, мистер Миллуорд, ведь ничего дурного нет в том, чтобы иной раз выпить винца или даже чего-нибудь покрепче, правда? – спросила матушка, подавая стопку джина с водой миссис Уилсон, которая пожаловалась, что вино тяжело ложится ей на желудок. (Ее сын Роберт, перехватив бутылку, налил себе чистого джина.)
– Ну разумеется, – ответил оракул, величественно кивнув. – Все это блага и дары Провидения, только не надо ими злоупотреблять.
– А вот миссис Грэхем так не думает. Вы бы послушали, что она нам тут наговорила! Я ее тогда же предупредила, что посоветуюсь с вами.
И матушка незамедлительно познакомила общество с заблуждениями упомянутой дамы касательно употребления спиртных напитков, заключив свое повествование вопросом:
– Ведь, по-вашему, это неверно, ведь так?
– Неверно? – повторил священник с особой торжественностью. – Преступно, вот что это! Преступно. Она же не только тиранит мальчика, но презирает дарованные нам блага и учит его попирать их ногами!
Он вошел во вкус и принялся подробно растолковывать всю опасность и кощунственность подобных взглядов. Матушка внимала ему с глубочайшим благоговением, и даже миссис Уилсон снизошла до того, что дала отдохнуть своему языку, и слушала молча, мирно прихлебывая джин. Мистер Лоренс, положив локти на стол, поигрывал недопитой рюмкой и чему-то улыбался.
– Но согласитесь, мистер Миллуорд, – сказал он, когда преподобный джентльмен прервал наконец свою проповедь, чтобы перевести дух, – что в тех случаях, когда в ребенке заложена склонность к неумеренности, например, по вине его родителей и дедов, некоторые меры предосторожности могут оказаться нелишними? (Следует объяснить, что, по слухам, отец Лоренса сократил свой жизненный срок неумеренным пристрастием к крепким напиткам.)
– Возможно, возможно, но умеренность – это одно, сэр, а полное воздержание – совсем другое!
– Но я слышал, что есть люди, неспособные вовремя остановиться. Если полное воздержание – и зло, хотя многие в этом сомневаются, то злоупотребление – еще большее зло, этого отрицать нельзя. Некоторые родители строго-настрого запрещают своим детям даже пригубливать спиртные напитки. Но родительская власть не беспредельна, дети склонны тянуться к запретному плоду. А в подобном случае у ребенка не может не пробудиться сильного желания попробовать то, что другие так хвалят и любят, то, что для него находится под запретом, и при первом же удобном случае он это желание удовлетворит, последствия же такого нарушения могут быть чрезвычайно серьезны. Я не считаю себя судьей в подобных вопросах, но мне кажется, что план миссис Грэхем, о котором вы рассказали, миссис Маркхем, обладает немалыми достоинствами, несмотря на всю его странность. Ведь мальчик сразу же избавляется от соблазна. Его не мучает тайное любопытство, не снедает нетерпеливое желание попробовать соблазнительные напитки – ведь он уже хорошо с ними знаком и успел проникнуться к ним отвращением, нисколько не пострадав от вредных их свойств.
– И это хорошо, сэр? Разве я не доказал вам, насколько дурно, насколько противно Писанию и разуму учить ребенка смотреть с презрением и отвращением на дары Провидения, вместо того чтобы пользоваться ими в меру?
– Возможно, сэр, вы считаете опий даром Провидения, – возразил с улыбкой мистер Лоренс, – но, согласитесь, вряд ли многим следует употреблять его, даже в умеренности. Однако, – добавил он, – мне не хотелось бы, чтобы вы приняли мое уподобление слишком буквально, а потому я допью свою рюмку.
– И выпьете еще одну, мистер Лоренс? – сказала матушка, подталкивая к нему бутылку.
Но он мягко отказался, чуть-чуть отодвинулся от стола, откинулся на спинку, обернулся ко мне (мы с Элизой Миллуорд сидели на диване позади него) и небрежно спросил, знаком ли я с миссис Грэхем.
– Я видел ее раза два.
– И что вы о ней думаете?
– Не скажу, что она мне очень понравилась. Она красива, а вернее сказать, обладает благородной и интересной внешностью, но далеко не любезна, склонна, как мне кажется, к нетерпимости и, раз составив какое-то мнение, будет отстаивать его любой ценой вопреки очевидности, насильственно приводя все в согласие со своими предубеждениями. Нет, на мой вкус в ней слишком много ожесточенности, умничания и едкости.
Он промолчал, отвел глаза и закусил нижнюю губу, а через минуту-другую встал и направился к мисс Уилсон, которая, полагаю, влекла его к себе столь же сильно, как я отталкивал. В то время я не придал его словам ни малейшего значения, но впоследствии вспомнил их вместе с множеством таких же пустяков, когда… Но не буду забегать вперед.
Вечер мы заключили танцами – наш достойный пастырь не счел, что подобное развлечение в его присутствии неуместно, хотя мы даже наняли деревенского скрипача. Однако Мэри Миллуорд не пожелала к нам присоединиться, как и Ричард Уилсон, хотя матушка всячески его уламывала и даже обещала сама быть его дамой.
Впрочем, мы прекрасно обходились без них. После кадрили начались контрдансы, время летело незаметно, и был уже довольно поздний час, когда я крикнул скрипачу, чтобы он заиграл вальс. Но прежде чем я успел закружить Элизу в этом восхитительном танце, а Лоренс с Джейн Уилсон и Фергес с Розой – последовать нашему примеру, мистер Миллуорд остановил нас:
– Нет-нет, этого я не допущу! Да уже пора и по домам.
– Ну, папочка! – жалобно сказала Элиза.
– Время позднее, девочка, нам пора! Помни, умеренность и послушание во всем. Ведь сказано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам!»
В отмщение я последовал за Элизой в тускло освещенную прихожую и, делая вид, будто помогаю ей накинуть шаль, боюсь, сорвал быстрый поцелуй за спиной ее родителя, пока он укутывал шею и подбородок толстым шарфом. Но, увы! Обернувшись, я узрел перед собой матушку. И, едва наши гости удалились, был подвергнут суровому выговору, который угасил мою веселость и испортил все удовольствие от вечера.
– Мой дорогой Гилберт! – сказала она. – Зачем ты так себя ведешь? Ты ведь знаешь, как близко к сердцу я принимаю твое благо, как я люблю и ценю тебя превыше всего в мире, как надеюсь увидеть тебя преуспевающим, счастливо устроенным в жизни и каким горем для меня будет, если ты женишься на этой девчонке, да и на любой другой в здешних местах. Что ты в ней видишь, я просто понять не могу! Нет, я не только о том, что у нее нет за душой ни гроша. Ни красоты, ни благоразумия, ни добрых душевных качеств – ну, словом, ничего хорошего. Если бы ты знал себе цену, как знаю я, ты и думать о ней не стал бы. Подожди немножко, и сам увидишь! Если будешь и дальше слеп к тому, какова она на самом деле, то придется тебе всю жизнь раскаиваться, когда откроешь глаза и увидишь, сколько вокруг куда более достойных девиц. Помяни мое слово!
– Ах, мама, ну довольно же! Терпеть не могу нотаций. Жениться я пока не собираюсь, ты же знаешь. Но неужели мне и поразвлечься нельзя?
– Можно, милый мой мальчик, конечно, можно. Но только по-другому. А так вести себя нельзя. Будь она хорошей девушкой, ты ее оскорбил бы. Но она-то – хитрая дрянь, уж поверь мне, и ты опомниться не успеешь, как угодишь в ловушку. А если ты все-таки женишься на ней, Гилберт, то разобьешь мое сердце, так ты и знай!
– Да не плачь же, мама, – сказал я, потому что у нее из глаз уже покатились слезы. – Дай-ка я тебя поцелую и сотру тот поцелуйчик. Не брани Элизу и успокойся. Обещаю тебе, что я никогда… То есть что я хорошенько подумаю, прежде чем решиться на то, чего ты серьезно не одобряешь.
С этими словами я зажег мою свечу и отправился к себе в сильном унынии.
Глава V
Мастерская
Только под конец ноября я все-таки сдался на просьбу Розы и согласился отправиться с ней в Уайлдфелл-Холл. К нашему удивлению, первое, что мы увидели, когда нас ввели в комнату, был мольберт, возле которого стоял стол, заваленный свернутыми в трубку холстами, пузырьками с лаком, кистями, красками и еще всякой всячиной. Лежала там и палитра. К стене были прислонены незаконченные наброски и несколько завершенных картин – почти только пейзажи, некоторые с фигурами.
– Я должна извиниться, что принимаю вас у себя в мастерской, – сказала миссис Грэхем. – Но в гостиной камин не затоплен, а сегодня холодно, и нам было бы там неуютно.
Освободив два стула от холстов, она пригласила нас сесть, а сама вернулась на свое место у мольберта и во время разговора иногда поворачивалась к нему и даже делала мазок-другой, словно была не в силах совсем отвлечься от новой картины и сосредоточить внимание на гостях. Это был вид Уайлдфелл-Холла на заре с нижнего луга – его темная громада четко вырисовывалась на фоне серебристо-голубого неба с двумя-тремя алыми полосками у горизонта. Верность натуре не оставляла желать ничего лучшего, и написана картина была с большим вкусом.
– Как вижу, вам трудно оторваться от вашей работы, миссис Грэхем, – сказал я. – Умоляю вас, продолжайте, иначе мы окажемся в положении непрошеных и назойливых посетителей!
– Нет-нет! – ответила она, бросая кисть на стол, словно внезапно вспомнив о требованиях вежливости. – Мой дом не так уж часто осаждают визитеры, чтобы я не нашла нескольких минут для тех, кто потрудился навестить меня.