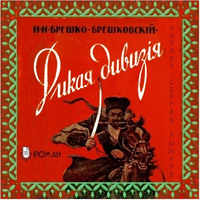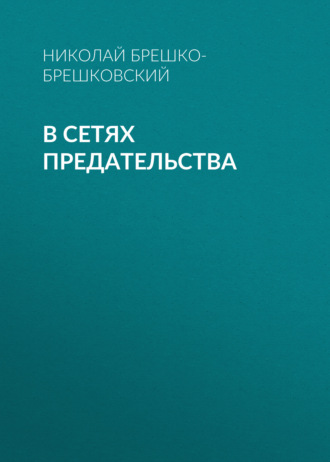
В сетях предательства
И громче вставали неясные зовы, и хотелось в эти дни войны быть там, далеко на севере, и жить этой войной вместе с миллионами, десятками миллионов русских.
И стыдно было. Он словно каленым железом все тело жег – стыд… Она украдкой, как преступница, встречается с врагами своей родины, принимает их у себя, германских и австрийских дипломатов. И эти элегантные господа какими-то ночными грабителями проникают в палаццо Джустиньяни вместе с аббатом…
Напрасно княжна умоляла его, смачивая слезами и покрывая поцелуями сильные с гибкими пальцами руки, способные задушить человека.
– Ради всего святого… Эти посещения могут бесповоротно скомпрометировать меня в глазах русской колонии и нашего посольства. Все отвернутся от меня, я буду как зачумленная.
Аббат по-своему успокаивал синеокую Барб.
– Княжна, последнее вовсе не входит в наши общие интересы. Не зачумленной должны вы быть, а желанной и вне всяких подозрений. Только тогда и можете принести пользу. В противном же случае, разоблаченная, вы никому не нужны. А если некоторые дипломаты бывают у вас, это делается под покровом строжайшей тайны. Необходимы личные встречи, беседы. По-моему, палаццо Джустиньяни – самое удобное, самое безопасное место. Поверьте, всякий раз принимаются необходимейшие предосторожности. Надежные люди сначала осматривают все прилегающие кварталы, нет ли каких-нибудь подозрительных лиц, не следят ли за нами, и только тогда мы решаемся сделать ночной визит. Нет, бросьте ваши сомнения, вы сами не подозреваете, насколько мы бережем вас и вашу репутацию.
Что она могла возразить?
Однажды Барб поехала кататься на Пинчио. Выйдя из автомобиля, она тихо гуляла средь фонтанов, античных бюстов и развесистых пиний. Горестный был у нее вид. Неожиданно, так неожиданно, что княжна вздрогнула вся, появился перед нею Манега.
– О чем вы грустите?..
– Ах! – вырвалось у Барб. – Мне так хотелось бы в Россию! Хоть на один месяц. Я вернулась бы, клянусь, вернулась бы…
– Еще не пришло время. Увидим, как повернутся события, и тогда, тогда я сам, быть может, пошлю вас в Петербург с важной, очень важной миссией, – загадочно молвил аббат, – а пока взгляните, какой перед вами расстилается вид! Можно ли грустить, созерцая подобную, единственную в мире панораму? Этот купол святого Петра, этот гранитный массив башни святого Ангела, желтая ленточка Тибра и все это в нежно-золотистой дымке… Видите, намечается вилла Мадама. Ранним летом там поют соловьи, там хорошо и пустынно. Я советую вам проехать на виллу Мадама. Эта прогулка рассеет ваши грустные мысли. В Риме нельзя скучать. Это город вечной красоты, и каждый камень поет гимн небесам. Повторяю, скоро, скорее, чем ожидаете, вы помчитесь в Россию, которую до сих пор не можете забыть…
2. Участие барона Хеллера
Долго сидела неподвижно Вера Клавдиевна, ошеломленная. Сразу приоткрылась какая-то завеса, и она увидела и услышала такое, что заставило ее содрогнуться. Значит, прав, тысячу раз прав был Дима, говоря о Лихолетьевой с таким презрительным осуждением! Он указывал даже дом на улице Гоголя, где эта высокомерная, холодная женщина продавала какие-то важные документы германскому военному агенту. Это скользнуло тогда мимо Веры, почти не задев ее. «Какие-то бумаги» для девушки, чуждой всяких политических интриг, это звучало слишком отвлеченно.
Теперь же, теперь, когда называют имена, называют реальное изобретение, которое во время войны будет служить врагам, будет, если этому не помешать самым энергичным образом, – теперь Забугина с ужасом верила во все и во вся.
И странное чувство овладело ею, до сих пор не знакомое, а может быть, просто дремавшее где-то в глубине.
Даже в лучших русских семьях дети редко получают настоящее патриотическое воспитание в благородном, широком значении слова. Гораздо чаще «патриотизм» понимается уродливо, однобоко. А в английских, французских, итальянских, сербских семьях красивая, героическая любовь к родине прививается детям на самой заре, когда они начинают только лепетать.
Вера Забугина не была исключением. Она росла, как растет большинство детей видных петербургских чиновников. Ее учили языкам, танцам, хорошим манерам, но никто не учил, что надо любить Россию, радоваться всему хорошему в ней, болеть ее темной стороной, изъянами.
А к тому же еще несколько лет международно-монастырского воспитания в Сакре-Кер способствовали тому, что Вера успела полюбить Францию и основательно позабыть Россию. Но сейчас эти два подслушанных разговора – один через дверь, другой у телефона – произвели какой-то чудодейственный переворот в девушке. Словно ее, лично ее, Веру Забугину, какие-то темные силы пытались оскорбить, обокрасть, обессилить, по-вампирьи высосать всю кровь… Она даже преувеличивала опасность в охватившем ее порыве. Ей чудилось, что от этих «потребителей» зависит слишком даже много, едва ли не исход войны.
– Как быть? Господи, научи меня, – беззвучно, с детски-горячим призывом шептала Вера, сжимая голову.
Ах, будь здесь в эту минуту Дима! Он такой сильный, умный, удачливый, он знал бы, как поступить, что делать. А между тем необходимо действовать не откладывая. Иначе… – и воображение рисовало катастрофу, целый ряд катастроф… Эти «истребители» – звено целого длинного ряда преступных дел, совершаемых этими людьми. Такие человеческие хитросплетения – можно с ума сойти! Этот ничтожный молодой человек в военной форме, невоспитанный, дурного тона, бог весть откуда и кто, допускает развязный тон по отношению к Лихолетьевой, даме с таким исключительным положением. Он бравирует своей близостью, своим знанием «прошлого». Значит, действительно эта бледно-восковая женщина, играющая чуть ли не в герцогиню, – в зависимости, в некоторой зависимости от проходимца в болгарской форме?
В третьем часу вернулась из Царского мадам Альфонсин. Шариком в бархатном платье вкатилась в контору.
– Я так усталь, так усталь! Ах, где я был! Какой сюксе имель мадам Карнац! Но что с вами, мадемуазель Забугин? Ви болен? By зет маляд? На вас такой лицо…
– Да, мадам Карнац, у меня болит голова, – ответила Вера.
Ответила вполне искренне. У нее действительно шумело все в голове, шумело каким-то гордиевым узлом нахлынувших, друг друга теснящих мыслей.
– В таком слючай я вас отпускай. Ви может дома отдихать. Я сама займусь на контора… Никто не звонил? Мадам Лихолетьев не звонил?
– Нет.
– Синьор Антонелли не приставал к вам?
– Как он смеет! – гордо вспыхнула Вера.
– О, я знай, ви очинь самолюбиви баришня. Ви очинь самолюбиви! Настоящи анфан де бон мезон. Смотрите на ваше лицо… Ви нездорови… Можете уходить.
Веру не надо было упрашивать. Нечем дышать здесь. Нечем! Ее тянет прочь отсюда, на воздух.
И вот она очутилась на Невском, подхваченная шумной толпой. Ее удивило самодовольное равнодушие этого людского потока. Никто из них не знает того, что знает она, Вера Забугина… Если б они знали! И таково уже свойство человеческой натуры, – ей казалось странным, что все они, все не думают заодно вместе с ней. Когда подростком она ехала вместе с отцом в театр в карете, она не понимала, как в это время будничные люди самым прозаическим образом слоняются пешком вдоль скучных, никому не интересных улиц!
– Куда пойти, кому сказать, кого предупредить обо всем этом? Дима! Зачем его нет? Зачем он далеко, там, а не с ней? Он все знает, все умеет. Она же сама – как впотьмах.
А время уходит, бежит. В четыре часа Шацкий будет у Лихолетьевой, и они сговорятся.
Отыскать Корещенко? Где его найдешь? И, кажется, его мастерская далеко за городом. А между тем надо спешить, так надо спешить, и на дорогом счету каждая минута!
Девушка лихорадочно торопилась. Так и прыгали, мелькая, фамилии. Перебирала всех своих «бывших» знакомых. Бывших, потому что она растеряла людей, которые посещали их дом, когда жив был отец.
Вспомнила корректного пожилого человека. Он всегда благоухал какими-то особенными духами. В учтивой улыбке блестели белые ровные зубы, и трудно было сказать, свои ли это собственные или вставные. Барон Хеллер… – Вера пойдет к нему и… там будет виднее… Он сделает все зависящее от него.
Забугина в первом попавшемся магазине заглянула в телефонную книгу, позвонила.
– Квартира барона Хеллера. Кто изволит спрашивать? – Ясный и четкий голос отлично вышколенного слуги.
– Вера Клавдиевна Забугина… Христиан Леопольдович дома?
– Никак нет, господин барон у себя на занятиях, но только они будут через двадцать минут.
– Скажите, что я приеду через полчаса… по очень важному делу…
Барон встретил девушку с вежливым недоумением. Признаться, она ожидала несколько иной встречи. Хеллер часто бывал у них и, по крайней мере, дважды в неделю обедал. Старый холостяк, он не держал своего стола, обедая и завтракая у знакомых. Барон, хотя и обладавший крупными средствами, был скуповат. Кроме того, берег свой желудок.
В кабинете барон предложил Вере Клавдиевне сесть. Не дождавшись, пока она сядет, опустился у письменного стола в кожаное с круглой спинкой кресло.
– Как живете? Как ваши дела? – И не слыша ответа: – У вас какое-то очень важное дело ко мне?
– Да, барон, и, признаться, необыкновенное дело. Я вся дрожу, волнуюсь, и… не удивляйтесь, если я буду говорить непоследовательно, сбивчиво.
«Денег попросит», – мелькнуло у Хеллера. Он успел оценить скромный, почти бедный туалет Веры и решил отказать.
– У вас какое-нибудь несчастье?
– О, нет! Лично я более чем когда бы то ни было счастлива! Дело, по которому я пришла, имеет скорее общественное и даже не общественное, а не знаю, право… политическое, что ли, значение…
«Не будет просить денег», – подумал барон. Им овладело другое беспокойство.
– Вы замешаны в какую-нибудь историю?
– Наоборот! Я совершенно случайно открыла… напала на след чужой истории… Измена, предательство, называйте как угодно…
– Однако это становится уже совсем любопытным.
И барон вместе с креслом сделал движение к Забугиной.
Девушка подробно описала ему свои утренние впечатления и что говорили между собой чернобородый с Шацким и что говорил в телефон Шацкий Елене Матвеевне Лихолетьевой.
– Вы понимаете, барон, ведь это ужас! Один сплошной ужас! Вы займетесь этим, не правда ли? Займетесь, не теряя ни минуты. Я холодею при одной мысли… в то время, как наша армия борется там на позициях, льет свою кровь… здесь!.. – И в больших лучистых васильковых глазах девушки барон прочел тот самый холодный ужас, о котором она говорила.
Но это чувство не передалось Хеллеру. Он ответил спокойно, что-то соображая:
– Д-да… получается запутанная история… Хотя не верю… то есть я верю вам, вашим впечатлениям, но думаю, что этот милостивый государь прихвастнул своей близостью к такой уважаемой особе, как Елена Матвеевна… Во всяком случае, я этим займусь. Это долг каждого русского гражданина. Займусь, как только останусь один. Соблаговолите сообщить мне ваш телефон. Вы, кажется, служите где-то? Впрочем, не где-то, а именно в этом самом Институте красоты… Не скажу, чтобы это было подобающее место для барышни из общества…
Вера записала свой адрес и оба телефона – домашний и на службе. Барон встал, прерывая этим визит.
Хеллер действительно тотчас же по уходе Веры «занялся этим».
Владея собой, он в присутствии Веры хранил спокойно-невозмутимый вид. Наедине же с самим собой проявил озабоченность и даже тревогу.
– Эта глупая девчонка может наделать больших неприятностей!
Он позвонил Лихолетьевой. И опять, как было с Шацким, телефонная барышня, прежде чем соединить, спросила его фамилию.
– Елена Матвеевна, вы? Здравию желаю!
– Какой у вас голос, барон… Что-нибудь случилось?
– Пока ничего, но может случиться, и надо принять немедленно же соответствующие меры. По телефону говорить неудобно, я сейчас же приеду к вам. Вы будете дома?
– У меня сидит Шацкий.
– Тем лучше! Мы вдвоем зададим хорошую головомойку этому болтливому дураку.
– Дураку?
– Хуже! Бессознательному мерзавцу! Больше ничего не скажу. Остальное – при свидании.
Вера поспешила домой. Она всегда спешила, в надежде застать желанную весточку от Димы. Так и есть! Письмо! Это большая радость. Первое письмо. До сих пор были одни открытки.
Дима в юмористической форме описывал взятие им в плен венгерского лейтенанта. И только когда коснулся награды своей Георгиевским крестом, здесь уже зазвучали другие, теплые нотки.
«…Этот серебряный крестик радует меня, бесконечно радует! Не с точки зрения удовлетворенного самолюбия, а как одна из тех ступенек, что приближает наше взаимное счастье… Еще один крестик с бантом, еще один золотой, – и не будет „человеческого недоразумения“, и ты будешь женой человека с правами. Я так верю, хочу верить».
Девушка целовала эти написанные карандашом строки. Весь день, прошедший «на нервах», волнение, вызванное письмом любимого человека, – все это вместе охватило Веру чем-то жутким и радостным, и она расплакалась. Слезы перешли в истерику. Отойдя, выпив залпом стакан воды, Вера успокоилась, и так вдруг легко и празднично стало на душе. Она сидела, не выпуская из рук дорогого письма.
Перед вечером ее позвали к телефону. Она услышала голос барона Хеллера:
– Вера Клавдиевна, будьте внимательны: дело подвигается с быстротой гораздо большей, чем вы ожидали. Виновные будут обезврежены. Бумаги и планы не попадут в чужие руки. Вы же молчите! Никому ни одного слова! В абсолютной тайне – залог дальнейшего успеха. Необходимы ваши личные свидетельские показания в моем присутствии одному важному лицу. В десять часов вечера на углу Вознесенского и Екатерингофского вас будет поджидать автомобиль. Когда вы подойдете, шофер молча откроет дверцу и вы сядете внутрь. Эта романическая таинственность необходима. За вами следят, даже знают, зачем вы были у меня… Итак, до вечера… Вы сделаете все, что я сказал?
– Можно ли спрашивать? Конечно!
3. «Человек без костей»
Сухим сентябрьским днем приехал в отель «Семирамис» новый постоялец. Его скромный багаж из одного чемодана не мог внушить особое уважение главному портье Адольфу. Но постоялец спросил комнату, нисколько не интересуясь ценой, и это отчасти примирило требовательного Адольфа с единственным чемоданом господина, значившегося по паспорту Урошем.
Этот Урош, видимо, без конца-краю колесил по белу свету. Он имел вид международного перекати-поля.
Он с первого впечатления удивлял, не худобой, нет, а скорее необыкновенной гибкостью тонкой фигуры своей. Казалось, это человек без костей. Ему ничего не стоит согнуться пополам, войти в себя, как входит перочинный нож.
У него были узкие руки, с запястьем, на которое пришелся бы впору девичий браслет.
Темный блондин, Урош брился начисто, оставляя на английский лад подстриженные усы. Глаза, маленькие, прочно угнездившиеся под тяжелыми надбровными дугами, медленно и пытливо буравили собеседника. Да не только собеседника, а все, что попадало в поле их зрения…
Приведя себя в порядок, умывшись, но в костюме, в котором приехал с вокзала, Урош очутился на Морской.
И хотя петербуржца вообще удивить трудно, а в особенности во время войны, когда видимо-невидимо понаехало европейцев, нейтральных и союзных, однако Урош все же обращал внимание, заставляя на себя оглядываться.
Он не шел, а скользил – до того легка, почти воздушна его поступь. Можно подумать, что под этим спортивным костюмом не человеческое тело из костей и мяса, а каучук. Английская куртка со множеством карманов. Такой же материи короткие, до колен, панталоны. Икры туго забинтованы колониальными гетрами защитного цвета, переходящими в желтые шнурованные башмаки. И, в довершение всего, нес этот человек плотную книжечку в переплете из черной тисненой кожи. Путеводитель? Но все путеводители красные – традиционный цвет всех бедекеров. Правда, «гиды» Жоана в черных переплетах. Но эти гиды редко, почти никогда в Россию не попадают. Кроме того, судя по тому, как уверенно шел человек «без костей», он не нуждался ни в каких гидах.
Те, кто кидал на него беглый взгляд, старались определить его национальность. По виду словно бы и англичанин. Только нет… Англичанин идет – дрожит земля, до того уверенна и тверда его поступь. Весь «ритм» англичанина – гимн физической силе и мощи, а у этого – мягкая, неслышная, извивающаяся походка. Лицо хотя и довольно резких очертаний, однако нет в нем английской четкости, расы.
Он вышел на Невский, свернул в боковую улицу, нарядную, широкую, сплошь в зеркальных витринах. Вот особняк причудливой архитектуры с угловой башней, поднимающейся к небесам, словно рог тяжелого, неуклюжего чудовища. Весь особняк опоясан гигантской вывеской «Торговый дом Юнгшиллера». Витрины первого этажа славилась во всем Петербурге. Заезжие провинциалы ходили на них смотреть, как ходят в Эрмитаж и в Русский музей. Да они, витрины эти, и напоминали отчасти парижский музей «Гревэго», знаменитый восковыми фигурами своими. С панели зритель видел через стекло целые человеческие группы в натуральную величину. Штатские франты, приподняв цилиндр или фетр, кланялись элегантным, одетым по крику последней моды красавицам. И тут же гусары в цветных, расшитых серебром и золотом венгерках, гвардейцы, студенты, инженеры. Весь этот восковой музей менял физиономию свою сообразно всем четырем сезонам. Теперь сезон осенний, и все кавалеры, дамы, студенты, офицеры, путейцы, все соответственно и одеты.
Урош, скользнув своими глазами-буравчиками по этой «музейной» витрине, вошел в магазин. Торговля кипела. Пестрая толпа штурмовала все отделения, прилавки, уютные уголки с драпировками, мягкой мебелью, зеркалами.
Армия продавцов и продавщиц едва поспевала удовлетворять все заказы и требования. Две подъемные машины опускались и поднимались, перебрасывая публику вниз и вверх, из этажа в этаж.
Урош, спокойно разобравшись в этой человеческой сутолоке, наметив себе щеголеватого приказчика, – они все здесь на одно лицо, вылощенные, с иголочки, – обратился к нему:
– Можно видеть господина Юнгшиллера?
Приказчик оглядел Уроша с головы до ног.
– Если… если они вас примут… Они очень заняты… Во всяком случае, попробуйте… Возьмите ближайший ассансер, поднимитесь в четвертый этаж, пройдите в конец коридора. Господин Юнгшиллер в башне. О вас доложит курьер.
«В башне» – это звучало внушительно, даже гордо. Словно не купец-миллионер, торгующий платьем, а какой-нибудь средневековой рыцарь.
Урош чуть-чуть улыбнулся углами тонких губ.
Юнгшиллер находился у себя в круглой башне. Этот рыцарь не высматривал купеческих караванов. Он предавался более мирному занятию – читал утренние газеты. Юнгшиллер был в самом ликующем настроении. Куда ни глянешь, какую газету ни развернешь, повсюду бросается наше катастрофа под Сольдау. Юнгшиллер досадовал, что ему не с кем поделиться этой радостью. По крайней мере, сейчас, в этом кабинете со стеклянным куполом вместо плафона и громадным американским бюро, за которым сидел в клубах сигарного дыма Юнгшиллер…
– Это колоссально, это колоссально! – бормотал про себя румяный с двоящимся подбородком австриец.
Открылась дверь. На пороге кабинета-башни вытянулся представительный курьер, весь в галунах и позументах.
– Господин Урош просит доложить о себе…
– Урош? Какой Урош? Я не знаю никакого Уроша! Впрочем, пусть войдет.
Рыцарь круглой башни свысока встретил Уроша прищуренным взглядом.
– Что вам угодно, господин… Урош, если не ошибаюсь? Что вам угодно? – повторил Юнгшиллер, которому спортивный костюм, колониальные бинты и вообще весь вид худого, тонкого человека с подстриженными усами не внушили особенного почтения.
А маленькие глаза Уроша молча сверлили всю крупную откормленную фигуру Юнгшиллера, так смело и настойчиво сверлили, что рыцарь круглой башни заерзал на своем деревянном кресле с удобным, принимающим какое хотите наклонное положение сиденьем.
– Я могу вам уделить около минуты, не более.
– А я уверен, что воспользуюсь гораздо большим промежутком вашего драгоценного времени, – спокойно молвил Урош, слегка улыбнувшись одними глазами без участия губ. Он поднял книжечку в черном переплете, держа ее на виду.
– А! – вырвалось у Юнгшиллера, и он сделал какое-то неопределенное движение.
– Страница 211, строка 19 сверху, – продолжал Урош.
Юнгшиллер вскочил, разлетелся к Урошу, схватил его за обе руки, тряс их, не выпуская.
– Простите меня, простите! Мог ли я подозревать? Садитесь, пожалуйста, садитесь. Вот сюда, здесь вам будет удобнее. Прикажете чаю? Вот сигары, курите, пожалуйста! Мог ли я думать! Ко мне так часто являются разные посетители… Уверяю вас, что слыть богатым человеком – это уж совсем не такое большое удовольствие! Да, это налагает известное бремя… Очень рад, очень рад… Ну, теперь мы поработаем с вами вместе… Никак не подозревал, мне говорят: господин Урош, а я ждал господина Остоича.
– Остоича нет больше, он умер. Есть Урош.
– Я много слышал о вас, очень много… Вы, говорят, знаете восемнадцать языков, включая сюда все языки народов, входящих в состав нашей империи?
– Это не совсем верно. Я говорю на двадцати двух языках, а пишу совершенно свободно на восемнадцати.
– О, мой бог! Это же колоссально! Это сверхколоссально! – искренне восхищался Юнгшиллер. – Вы сами по происхождению чех?
– Нет, я словак, по отцу словак, мать же моя – боснийская сербка из Банья-Луки.
– Так, так… Пожалуйста, курите… Но что вы скажете про Сольдау? Какая победа, и все благодаря… знаете кому? – понизил голос Юнгшиллер.
– Благодаря Мясникову. Он выдал весь план русского наступления, что дало возможность германцам поймать армию в глухой мешок.
– Это же гениально! Организация Мясникова работает великолепно! Под его началом шестьсот агентов обоего пола… О, этот Мясников, если он только не свернет себе шеи, если его только не повесят, – он далеко пойдет! После войны ему обещан в Шварцвальде замок, где он будет спокойно в почете и комфорте доживать свой век… А мы здесь работаем вовсю, господин Урош. Это еще труднее, чем на передовых позициях. Необходима дьявольская осторожность. Малейшая, незначительная оплошность – и сложный механизм может полететь весь к черту! На днях, например, один способный, ловкий, но болтливый агент чуть не погубил всего дела. Случай спас… Хорошо, что мы имеем почти везде своих верных людей… Вот в этом наша сила и неуязвимость. А все же необходим всюду самый тщательный глаз. Вот вам пример – до сих пор мы пользовались моим радиотелеграфом, а теперь становится опасно: более мощная русская станция перехватывает… Волей-неволей надо будет прибегнуть к старому, зато надежному сообщению при помощи голубиной почты. Вчера приехал через Швецию один субъект, он привез две дюжины голубей, воспитанных в Мемеле. По воздушному пути это самая ближайшая точка между Петербургом и границей Германии… Кроме того, на днях прибудут еще голуби из Курляндии, воспитанные в имении барона Шене фон Шенгауза. Вы, кажется, специалист по голубям?
Урош пожал плечами.
– Какая же это особенная специальность? Надо знать, чем их кормить, перед тем как они полетят на дело. Маленькая тренировка предварительная, вот и все.
– И отлично! В этом я полагаюсь на вас. По голубиной части я швах! Вообще, я вижу, мы не будем скучать… Ха-ха, не правда ли, господин Урош, скучать не будем?
– Скучают бездельники.
– Вот, вот, именно бездельники! Хорошо сказано. Который час? Ого, половина первого! Надеюсь, вы позавтракаете вместе со мной? Я не хотел бы, чтобы нас видели в ресторане вдвоем. Я сейчас позвоню, и через двадцать минут нам привезут сюда в башню завтрак от Контана. Мы и побеседуем за бокалом вина.
«За бокалом вина» Юнгшиллер окончательно пришел в благодушнейшее настроение. Урош, слегка молчаливый, слегка замкнутый, понравился ему. Это не болтун, это человек дела…
Отхлебывая короткими глотками холодное искрящееся шампанское, Юнгшиллер предложил гостю:
– Вы будете иметь у меня открытый счет. Я предлагаю вам экипироваться с ног до головы. Фрак, смокинг, зимнее пальто, жакетная пара – все, что угодно! Одену вас, как первейшего щеголя.
Урош молча кивнул с улыбкой, не то благодарственной, не то насмешливой.
В два часа покинул он круглую башню, дымя громадной сигарой. На Невском высокий молодой человек в пенсне окликнул его:
– Остоич!
Урош узнал Груича, секретаря сербского посольства.
– Молчи! – приложил он, к губам тоненький палец «без костей».
Груич смотрел на него вопросительно.
– Молчи! Не спрашивай меня ни о чем. Не надо, чтобы нас видели вместе. Скажи, где ты живешь, и я зайду к тебе вечером.
Груич сказал.
– Запиши, забудешь…
– Я никогда ничего не забываю…
И, оставив ошеломленного секретаря, Урош скользящей походкой своей, гибкий, тоненький, затерялся в толпе…