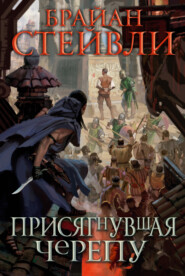По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пепел Нетесаного трона. На руинах империи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рыбак подбросил в качающуюся корзину новое поленце. Брызнули искры, зашипели, исчезая на стеклянной глади воды. Глупые рыбины, поднимающиеся на свет, не были видны Руку – вода там, где не отражала огня, казалась черной, но рыбаки уверяли, что краснобоки и плескуны путают горящие корзины с луной. Что влечет их к луне, конечно, оставалось загадкой.
– Зачем? – спросила наконец Бьен.
Руку всего раз в жизни довелось потрогать лед – один почитатель Эйры пригласил несколько ее жрецов провести обряд в его доме. Рук пошел с ними: размахивал кадилом и пел, а после окончания обряда купец угостил его свежим соком на льду. В его детском представлении это была невообразимая роскошь – холодный напиток в жарком мире. И все же прозрачные осколки чем-то встревожили мальчика. Осушив стакан, он долго разглядывал льдинки, потом робко тронул одну языком. От холода стало больно во рту. Он бы не объяснил почему, но это показалось опасным.
«Зачем» Бьен напомнило ему тот лед.
– Вестник, – помедлив, отозвался он.
Неделю назад глубокой ночью им удалось вынести мертвеца из комнаты Бьен. Аксоч на его шее к тому времени начал ссыхаться. Нехорошо было сбрасывать умершего в канал, но в теле уже не было души, а ничего другого ни Рук, ни Бьен придумать не смогли. Крематорий располагался на дальнем восточном конце города, а зеленые рубашки, застав их с трупом на руках, вряд ли проявили бы понимание.
– Он был сумасшедший, – сказала Бьен.
– Сумасшедшие так не говорят, – напомнил Рук. – Да и не один он был. И все возвещали одно и то же.
– В городе такое не первый раз. «Чистота крови». Сыны Као. Джем Вон со своими последователями. «Тройная истина». Зайду сейчас в Запруды – наверняка обнаружу на мосту какого-нибудь бедолагу, пророчащего потоп, мор или кровавые дожди. В Домбанге каждый второй верит в завтрашний конец света. И от этих ливней только хуже делается.
– Этот был не из Домбанга.
– Лжепророки попадаются в любых странах.
– А та штука у него на шее? – Руку не хотелось даже вспоминать стягивающуюся живую петлю. – Этот аксоч?
– Не знаю, Рук.
– Что, если на Домбанг и впрямь движется войско?
– Домбанг только что разбил армию сильнейшей в мире империи. Если его… Владыка – кстати, мне очень не нравится это слово. Я каждый раз им давлюсь. В общем, если он существует и если у него действительно есть войско, он, как все, сгинет в дельте. Ты сам так сказал.
– Только это не совсем верно… – Рук запнулся. – В дельте погибают не все.
– Большинство погибает. – Она поджала губы. – Не всех же воспитывали вуо-тоны.
Сказано это было мягко, даже ласково, но Руку послышался в словах отзвук угрозы.
Он отвернулся, взглянул через канал.
За спиной рыбака на перилах лодки рядком расселись бакланы – клювастые головы, словно кривые стилеты. На глазах у Рука один нырнул в воду. Рук стал считать удары сердца. Восемь… девять, десять… На пятнадцатом птица показалась на поверхности в нескольких шагах от места погружения, голова и спина у нее блестели от влаги. Серебристый рыбий хвост – мерцавший в отблесках огня, как монета, – дернулся и скрылся в клюве.
Бьен смотрела на него, ее глаза молчали.
– Сколько ты не бывал в дельте? Пятнадцать лет?
Он кивнул.
– А теперь хочешь вернуться.
– Не скажу, чтобы «хотел».
Он сомневался, подойдет ли это слово к клокотавшей в нем буре.
– Ты говорил, что выбрал Домбанг. Выбрал Эйру.
«Выбрал меня», – не добавила она.
– Я не собираюсь там оставаться. Только найду вуо-тонов. Если в протоках появилось что-то необычное, что-то стоящее внимания, они знают.
Она еще долго смотрела на него, прежде чем повторить вопрос:
– Зачем?
Простой ответ болтался перед ним, как наживка.
«Вдруг узнаю что-то, чтобы защитить храм, защитить тебя».
Это была бы не ложь, но и не вся правда. За ней вставал другой ответ, темнее и опаснее, и высказать его было не так легко.
Рук смотрел в ночь.
– Когда-то дельта была мне домом.
– Ты говорил, что отказался от нее.
Он незаметно покачал головой:
– Прошлое цепляет зазубринами, Бьен. Ты не хуже меня это знаешь. Как рыбацкий крючок. Так просто от него не откажешься.
* * *
В темный час перед рассветом город еще спал. Дождь наконец прекратился, но пропитанный влагой воздух давил, как набрякшее одеяло. Дым редких глиняных труб – из домов рыбаков или рано встававших работников – нехотя поднимался в небо, закрывал пятнышком горстку звезд и, остывая, клонился книзу, тянулся перышком по водам канала. Если к рассвету не поднимется ветер, дым, подпитанный сотней тысяч очагов, сгустится, забьет улицы и протоки, закутает город в жаркую зудящую дымку, в серый туман, где маячат лишь смутные тени. Но сейчас гребущему по каналу Као Руку – он обогнул с востока громаду Кораблекрушения и двинулся на юг – было далеко видно в промытом грозой воздухе. День еще не набросил на себя бронзовой мантии зноя. Весло было легким, каноэ беззвучно резало забрызганную звездами воду, с каждым гребком устремляясь вперед, словно ему не терпелось вырваться из города на волю.
Когда Рук поравнялся с последней лачугой, над водой поплыл низкий, шершавый мужской голос, выводивший мелодию старой домбангской песни.
Довольно, сказал рыбак, я здесь не останусь боле,
И он свернул свои сети, и он сложил свои весла.
Любовь моя любит иное,
А-ла, а-ла,
А-ла, увы и а-ла.
И он ушел по теченью,
Ушел из города вовсе,
Не ждал ни любви, ни жалости
И пел, что любит иное,
А-ла, а-ла, и пел, что любит иное.
Год миновал, и ветер пригнал назад его лодку.
А-ла, а-ла,
А-ла, а-ла и увы.
Лодка была пуста, рыбак назад не вернулся,
– Зачем? – спросила наконец Бьен.
Руку всего раз в жизни довелось потрогать лед – один почитатель Эйры пригласил несколько ее жрецов провести обряд в его доме. Рук пошел с ними: размахивал кадилом и пел, а после окончания обряда купец угостил его свежим соком на льду. В его детском представлении это была невообразимая роскошь – холодный напиток в жарком мире. И все же прозрачные осколки чем-то встревожили мальчика. Осушив стакан, он долго разглядывал льдинки, потом робко тронул одну языком. От холода стало больно во рту. Он бы не объяснил почему, но это показалось опасным.
«Зачем» Бьен напомнило ему тот лед.
– Вестник, – помедлив, отозвался он.
Неделю назад глубокой ночью им удалось вынести мертвеца из комнаты Бьен. Аксоч на его шее к тому времени начал ссыхаться. Нехорошо было сбрасывать умершего в канал, но в теле уже не было души, а ничего другого ни Рук, ни Бьен придумать не смогли. Крематорий располагался на дальнем восточном конце города, а зеленые рубашки, застав их с трупом на руках, вряд ли проявили бы понимание.
– Он был сумасшедший, – сказала Бьен.
– Сумасшедшие так не говорят, – напомнил Рук. – Да и не один он был. И все возвещали одно и то же.
– В городе такое не первый раз. «Чистота крови». Сыны Као. Джем Вон со своими последователями. «Тройная истина». Зайду сейчас в Запруды – наверняка обнаружу на мосту какого-нибудь бедолагу, пророчащего потоп, мор или кровавые дожди. В Домбанге каждый второй верит в завтрашний конец света. И от этих ливней только хуже делается.
– Этот был не из Домбанга.
– Лжепророки попадаются в любых странах.
– А та штука у него на шее? – Руку не хотелось даже вспоминать стягивающуюся живую петлю. – Этот аксоч?
– Не знаю, Рук.
– Что, если на Домбанг и впрямь движется войско?
– Домбанг только что разбил армию сильнейшей в мире империи. Если его… Владыка – кстати, мне очень не нравится это слово. Я каждый раз им давлюсь. В общем, если он существует и если у него действительно есть войско, он, как все, сгинет в дельте. Ты сам так сказал.
– Только это не совсем верно… – Рук запнулся. – В дельте погибают не все.
– Большинство погибает. – Она поджала губы. – Не всех же воспитывали вуо-тоны.
Сказано это было мягко, даже ласково, но Руку послышался в словах отзвук угрозы.
Он отвернулся, взглянул через канал.
За спиной рыбака на перилах лодки рядком расселись бакланы – клювастые головы, словно кривые стилеты. На глазах у Рука один нырнул в воду. Рук стал считать удары сердца. Восемь… девять, десять… На пятнадцатом птица показалась на поверхности в нескольких шагах от места погружения, голова и спина у нее блестели от влаги. Серебристый рыбий хвост – мерцавший в отблесках огня, как монета, – дернулся и скрылся в клюве.
Бьен смотрела на него, ее глаза молчали.
– Сколько ты не бывал в дельте? Пятнадцать лет?
Он кивнул.
– А теперь хочешь вернуться.
– Не скажу, чтобы «хотел».
Он сомневался, подойдет ли это слово к клокотавшей в нем буре.
– Ты говорил, что выбрал Домбанг. Выбрал Эйру.
«Выбрал меня», – не добавила она.
– Я не собираюсь там оставаться. Только найду вуо-тонов. Если в протоках появилось что-то необычное, что-то стоящее внимания, они знают.
Она еще долго смотрела на него, прежде чем повторить вопрос:
– Зачем?
Простой ответ болтался перед ним, как наживка.
«Вдруг узнаю что-то, чтобы защитить храм, защитить тебя».
Это была бы не ложь, но и не вся правда. За ней вставал другой ответ, темнее и опаснее, и высказать его было не так легко.
Рук смотрел в ночь.
– Когда-то дельта была мне домом.
– Ты говорил, что отказался от нее.
Он незаметно покачал головой:
– Прошлое цепляет зазубринами, Бьен. Ты не хуже меня это знаешь. Как рыбацкий крючок. Так просто от него не откажешься.
* * *
В темный час перед рассветом город еще спал. Дождь наконец прекратился, но пропитанный влагой воздух давил, как набрякшее одеяло. Дым редких глиняных труб – из домов рыбаков или рано встававших работников – нехотя поднимался в небо, закрывал пятнышком горстку звезд и, остывая, клонился книзу, тянулся перышком по водам канала. Если к рассвету не поднимется ветер, дым, подпитанный сотней тысяч очагов, сгустится, забьет улицы и протоки, закутает город в жаркую зудящую дымку, в серый туман, где маячат лишь смутные тени. Но сейчас гребущему по каналу Као Руку – он обогнул с востока громаду Кораблекрушения и двинулся на юг – было далеко видно в промытом грозой воздухе. День еще не набросил на себя бронзовой мантии зноя. Весло было легким, каноэ беззвучно резало забрызганную звездами воду, с каждым гребком устремляясь вперед, словно ему не терпелось вырваться из города на волю.
Когда Рук поравнялся с последней лачугой, над водой поплыл низкий, шершавый мужской голос, выводивший мелодию старой домбангской песни.
Довольно, сказал рыбак, я здесь не останусь боле,
И он свернул свои сети, и он сложил свои весла.
Любовь моя любит иное,
А-ла, а-ла,
А-ла, увы и а-ла.
И он ушел по теченью,
Ушел из города вовсе,
Не ждал ни любви, ни жалости
И пел, что любит иное,
А-ла, а-ла, и пел, что любит иное.
Год миновал, и ветер пригнал назад его лодку.
А-ла, а-ла,
А-ла, а-ла и увы.
Лодка была пуста, рыбак назад не вернулся,