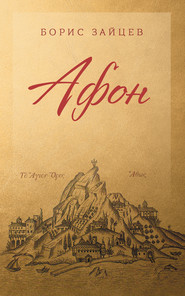По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Со стороны формы это удача. Несомненно, внесено новое. (Оссиановский мотив появлялся уже у Державина. Есть и тут он, все-таки от Державина очень далеко.) Если надо кого-то воспевать и прославлять, то для 12-го года именно так и надлежало делать. Певец перебирает всех полководцев российских, начиная со Святослава, особенно напирает на современных. Чередуя четырехстопный ямб с трехстопным, возглашает восхвалительные тосты. «Хор воинов» подхватывает последнее четверостишие, как бы «гремит славу» героям. Есть места блестящие. О родине сказано «навсегда», и с детства запало всем («Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия…»), есть строки хрестоматийные, есть изобразительность и острота, как бы и не идущие к мечтательному поэту. Но нежное утро – вполне Жуковский, как и строка: «Есть жизнь и за могилой».
В целом же это произведение «на случай». Нет самого в поэзии важного: бесцельности. Тут все имеет цель, все «нужно». Оттого шумно и смертно. Все для минуты и для дела. Отошла минута, дело отгремело, и произведение увяло. Но пока дело шумит, и оно плод приносит. Не тот, не истинный, но для жизни удобный.
«Певец во стане» дал Жуковскому славу и открыл путь к трону, чего не могла сделать Маша, «маткина душка». Белевская Лаура! С ней он безвестно изнывал бы в Муратове. А теперь, одев блеском слова своего нужное в жизни, вступил на первую ступень лестницы, ведущей к орденам, дворцам, царям. Создатель лирики русской был связан с Машей. Будущий тайный советник Жуковский заключался уже, как в зерне, в этом «Певце во стане русских воинов».
Давний сочувственник его и покровитель Дмитриев поднес эти стихи императрице Марии Федоровне. Ей они очень понравились. Она просила передать, что желала бы иметь их написанными рукою автора, – Жуковский, разумеется, и сделал это, приложив еще стихотворение «Мой слабый дар царица одобряет…».
В конце 1812 года «Певец» появляется в «Вестнике Европы», в январе 1813 года выходит отдельным изданием, а в мае того же года, по желанию императрицы, издание повторено. (В списках стихотворение ходило по всей России.)
И все-таки военная поэзия, да и вообще «военное» – случайность в жизни Жуковского.
Некогда майор Постников возил мальчика Васеньку в Кексгольм, определяя в полк. Из этого ничего не вышло: он оказался в Благородном пансионе. Теперь, в трагическую минуту России, на тяжелом повороте личной жизни кинулся он вновь туда, куда не надо. («Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел».) И вновь это лишь мелькнуло. Не только воевать, но и приказами, реляциями о сражениях не дано ему долго заниматься. Едва написав «Певца» и (после Красного) «Вождю победителей», Жуковский в Вильне заболевает. Тогда это называлось горячкой. Было ли у него воспаление легких, тяжелый грипп? Во всяком случае, нечто решительное и бурное. В декабре он оправился, но, очевидно, не настолько, чтобы в армии оставаться. Армия преследовала Наполеона, голодала и холодала. Ей предстояла еще борьба в Европе, Лейпциге, кампания во Франции, Париж. Ей нужны были не Жуковские.
Его отпустили с миром, в январе он возвратился уже домой.
* * *
Дома было туманно и нелегко. Маша знала все от Плещеевых – да теперь и сам он не скрывал. «Пловец», внезапный отъезд в армию… – вряд ли и тогда она не угадала. Теперь все было ясно. При чувствительности своей, нервной хрупкости и способности глубоко переживать, Маша трудно выносила этот год – даже хворала: вероятно, в нервном перенапряжении.
Жуковский чувствовал себя островозбужденно и непрочно. Сердечные дела в неясности. Решения не было, а должно было быть. Несмотря на резкую сцену в августе, не могла Екатерина Афанасьевна прервать все с ним, действительно удалить из Муратова. Для нее было в нем двойственное: и да и нет, и свой, близкий славный Базиль, с детства в доме произраставший полубрат, и невозможный жених, смутитель покоя дочери (да и матери: не надо думать, что Екатерина Афанасьевна легко это переживала).
Ее взгляд был ясен: она знает, что Базиль сын ее отца, степень родства его с Машей брака не допускает. Одно из двух: или скрыть от священника, что отец жениха Бунин, или священник венчать не станет. Она Машу любила (хоть и деспотически), и Базиля любила, но Церковь и закон выше. Церковь обманывать нельзя.
Жуковский церковным тогда не был (да в полной мере никогда и не стал). Упорство ее казалось ему странным, неправедным. Казалось формализмом – тем в быту христиан, что он праведно не принимал. Он близок к счастию, к радости великой и для себя и для прекрасного юного существа; ему препятствуют из законничества. На отношениях с Екатериной Афанасьевной это не могло не отражаться.
Так в колебаниях и волнениях, беспокойстве о здоровье Маши проходил 1813 год. Литературе дал он, среди другого, два произведения значительных: «Тургеневу» («Друг, отчего печален голос твой…») – полно меланхолии, чувства глубокого и чистого: невозвратимость ушедшего, дорогих друзей, кого нет больше. Давний облик Андрея, отца его Ивана Петровича, разуверенье в настоящем – это послание есть прямая летопись души. «Ивиковы журавли» более объективны. Все-таки в самом Ивике, «скромном друге богов», есть нечто знакомое. В его чистом простодушии, в смиренной закланности узнается весьма белевское.
Муратовский поэт безответен, и нельзя сказать, чтобы был дальновиден. Вспомнив юные времена (Благородного пасиона, Дружеского Общества), он вступает в переписку с прежним приятелем своим Воейковым, тем самым, в доме которого на Девичьем поле собирались некогда молодые поэты и мечтатели. Именно у него они –
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали…
Об этом Воейкове сохранились у Жуковского поэтические воспоминания. Он представлял себе его совсем не так, как надо было. И пригласил теперь в свои края, погостить и пожить. Воейков предложение принял – в конце 1813 года появился в Муратове.
Воейков и Жуковский
Хромой, почти уродливый, гугниво говоривший человек вдруг появляется вблизи Жуковского, им же самим приманенный. Воейков и писал, и воевал, и, выйдя в отставку, путешествовал по России. Ему хотелось посмотреть, понаблюдать. В нем была острота и язвительность, цинизм, но и сентиментальность. Весь он двойной – двуснастный. Мог оскорблять – и умиляться. Предавать и плакать, сочинять пасквили и каяться.
Обладал склонностью к сатире. Писал стихи, пользовался даже известностью. Влажной стихии поэзии, в которой плавал Жуковский, в нем не было. Он Жуковскому льстил, как поэта его не понимал и, вероятно, в душе над ним зло смеялся. Но вот попал под одну с ним кровлю.
Несмотря на нервность, напряжение этого года для Маши и Жуковского, в Муратове все еще жили весело – особенный блеск вносили Плещеевы. Воейков не скучал. Маша слишком тиха и задумчива, он сразу начал ухаживать за Александрою, младшей – Светланой Жуковского. Ей восемнадцать лет, она прелестна, весела, резва, шутница и проказница, бреет кошкам усы и обыгрывает в шахматы пленного французского офицера, с товарищем своим у них гостящего.
Новый год очень весело встретили. В полночь поднялся в зале между колонн занавес. Там стоял Янус, двуликий бог, украшенный короною, – свой же дворовый изображал его. Одно лицо у него было старое, другое молодое. Жуковский, разумеется, сочинил стихи. Обратившись к молодежи в зале старым лицом, Янус декламировал:
Друзья, я восемьсот
Увы! тринадесятый
Весельем небогатый
И очень старый год.
Потом повернулся. Теперь лицо его юно. Он продолжает:
А брат, наследник мой,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой.
На голове этого муратовского Януса прикреплена свеча. Строго ему наказано: если воск потечет и будет капать на темя, терпеть, терпеть… Неизвестно, потекла ли свеча. Во всяком случае, часы как раз пробили двенадцать. Господа начали чокаться шампанским. Янус, на кухне освободившись от своих лиц и короны, хлопнул, разумеется, вволю российской водочки.
Воейков записал: «18 1/I 14 г. встретил Орловской губернии в селе Муратове очень приятно в доме Катерины Афанасьевны Протасовой». Перечислив присутствовавших, добавляет: «Мне должно было быть очень весело в сем раю, обитаемом Ангелами, но… О? peut on ?tre mieux qu’au sein de sa famille?[6 - Где может быть лучше, как не в лоне своей семьи? (франц.)] и я иногда задумывался, даже грустил».
Таково время. Искренно или неискренно, без сентиментализма нельзя. Отчасти же он и играл одинокого, бесприютного, тоскующего по семье скитальца, завоевывая девичье сердце, а еще важнее: располагая к себе мать – хозяйку и владычицу. Жуковский же о его планах не подозревал. По наивности своей полагал, что именно ему, Жуковскому, будет Воейков содействовать в сердечных его делах – собственно в том, чтобы переубедить Екатерину Афанасьевну и добиться согласия на брак с Машей.
Но это еще не сегодня, не завтра. Пока же что широкая и беззаботная жизнь помещичья продолжается.
16 января Плещеевы отвечают праздником у себя – день рождения Анны Ивановны. Негр постарался. В Черни размеры его оказались еще больше.
Утром отстояли обедню. Затем отправились в рощу, где Анну Ивановну встретила крепостная богиня и прочла у жертвенника стихотворное приветствие. Тут же подали великолепный завтрак. (Надо думать, скорее закуску а la fourchette, стоя, и по преимуществу чокаясь.) Прогулка по огромному парку – там заранее выстроен целый город, домики наполнены костюмированными пейзанами, есть даже рынок. Торговки раздают гостям сувениры, на память о дне рождения. В башне камера обскура показывает портрет Анны Ивановны, вокруг нее пляшут живые амуры.
Днем, вероятно, карты, для молодежи petits jeux[7 - Салонные игры, светские забавы (франц.).], вечером превосходный обед, а потом спектакль. Утренняя Феклуша или Дуняша, изображавшая богиню, выступала теперь в Филоктете Софокла, а затем Негр сам смешил публику во французском фарсе. В заключение фейерверк. Плещеев называл жену почему-то Ниной («К Нине» и известное послание Жуковского). В ее честь огненные буквы сияли в парке. Но с этим вышло недоразумение. Война еще не кончилась. Только недавно был страшный Лейпциг. Некоторым из подвыпивших помещиков показалось, что буквы эти горят в честь Наполеона… – Плещееву пришлось потом объясняться с губернатором.
Воейков во всем этом принимал участие – в играх, шарадах, писал девицам стихи в альбомы: отличная обстановка для ухаживания за Светланой. О 16 января у Плещеевых записал (на полях сочинений Дмитриева): «Двойной праздник fete des rois[8 - Праздник королей (франц.).] и возврат Жуковского из армии в прошлом году. Меня выбрали в короли бобов. А.И. Плещеева пела Светлану с оркестром, потом Велизария, потом Клоссен играл русские песни на виолончели. За ужином все, кроме меня, подпили; пито за здоровье Ангела-хранителя Жуковского, за любовь и дружбу. Горациянский ужин! благородное пьянство! изящные дурачества!»
Среди этих изящных дурачеств и горациянских ужлнов вряд ли мог быть покоен Жуковский. Он писал разные шутливые стихи, много их посвящал Светлане, крестнице своей, но дело его с Машей не двигалось – время же шло, он уже целый год дома. Надо что-то предпринимать.
31 января Воейков уехал на время в Петербург, по делам. Жуковский же собрался к Ивану Владимировичу Лопухину – за поддержкой и укреплением. Если Лопухин брак одобрит, это может подействовать и на Катерину Афанасьевну.
Под Москвой, в роскошном Савинском, где на пруду был Юнгов остров, урна, посвященная Фенелону, и бюст Руссо, среди мира, тишины, книг доживал свой век масон Лопухин, Иван Владимирович, друг покойного Ивана Петровича Тургенева, тоже гуманист, но и мистик, складки новиковского кружка. Его знал Жуковский с ранней юности. Встречал в доме Тургеневых. Как и к Ивану Петровичу, сохранил отношение благоговейное. К нему, как к могущественному союзнику, заступнику и некоему патриарху новозаветному, решил совершить паломничество.
В феврале и отправился. Зима уже надламывалась. Время к весне, погода отличная. Ехать далеко, но его несет легкая сила. «Весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда». «Я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильней всякой молитвы». Вот так и ехал, в тихой восторженности. Мечталось о прекрасной жизни с Машей, в любви и благообразии, благоговении и чистоте. В вечном благодарении Богу за счастие – и все это чрез Машу. «Так, ангел Маша, вера, источник всякого добра, осветитель всякого счастия!»
Все в ней, все через нее. Маша поднята на высоту Беатриче, Лауры, это уже полусимвол, не Дева ли Радужных ворот Соловьева, Прекрасная Дама молодого Блока?
Это она освящает его, ведет к Богу. До этого у него были и сомнения, иногда даже противление религии – формальная сторона ее неблизка ему, то, что видел он вокруг, не удовлетворяло. Нужна религия сердца. И вот чрез смиренную Машу, во всем детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии.
В таком настроении приехал он к Лопухину и провел несколько дней в этом Савинском – среди мудрости, тишины подмосковного патриаршего бытия. По замерзшему пруду ходил на поклон Фенелону и Руссо, чистый вставал в чистоте февральских утр, открывал душу свою Ивану Владимировичу, в котором воплощалось теперь лучшее, что он знал в жизни: дух дома тургеневского, память об Иване Петровиче, об ушедшем друге Андрее.
Лопухин вошел во все его сердечные затруднения. Соответственно религии сердца, к делу подошел не со стороны канонических постановлений, а изнутри. На брак благословил. Обещал и поддержку у Катерины Афанасьевны. Жуковский вполне мог считать, что поездка его имела успех.
Смысл ее, во всяком случае, велик. Он не столько в практическом, сколько во внутреннем. Это февральское путешествие по полям и лесам России, тайные и глубокие переживания пред лицом Бога, все тогдашнее высокодуховное настроение его не могло пройти даром. («Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: “Ты готовишь мне счастие, Тебя достойное, и я клянусь сохранить его, как залог милости, и не унизиться, чтобы не потерять на него право”».)
Все это слагало Жуковского, делало его именно таким, каким и вошел он впоследствии в Пантеон наш.
* * *
Дело, из-за которого Воейков уехал, было простое, житейское: хотел чрез Александра Тургенева получить в Дерпте кафедру русской литературы – и хлопотал об этом. Но и жениться собирался на Светлане. Жуковскому кажется это странным. Если Воейков полюбил, так на что ему Дерпт, профессорство… – сиди в милом Муратове, предавайся любви, счастию. Вот он пишет ему в Петербург: «Твои дела идут хорошо: говорят о тебе, как о своем, списывают твои стихи в несколько рук».
«Ради Бога, скажи мне, на что может быть тебе нужно теперь твое профессорство? Это имело бы еще смысл, если б надежда на брак рухнула. Но как раз все обратно. Неужели такая радость сидеть в Дерпте на службе и дожидаться надворного советника, когда ждет любовь?..»
Жуковский иногда и сам бывал жизнен, умел считать деньги, заботиться о заработке. Но тут стихия его поэтическая все затопляет. Он в пафосе прекраснодушия. Воейкова называет «брат» (словарь прежней чувствительности, времен Андрея Тургенева). Мечтает о каком-то идеальном содружестве-сожитии с тем же Воейковым (очевидно, оба уже женаты на сестрах) – будут вместе трудиться, давать себе и другим счастие в любви, тишине и возвышенной жизни. На горизонте друзья – Вяземский, Батюшков, Уваров, Плещеев, Тургенев. «Министрами просвещения в нашей республике пусть будет Карамзин и Дмитриев и папою нашим Филарет».