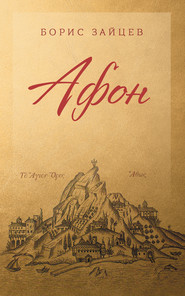По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Облик Орла – это гений в изгнании, нищете и бездомности. Данте был флорентийский дворянин. Жил в своем доме, обладал достатком. Гражданские усобицы разметали все. Он потерял семью, Флоренцию, родную землю. Скитаясь в Северной Италии учителем литературы, полуприживальщиком сильных мира сего, написал великое творение.
Труднее всего было ему одолевать свой гнев и гордость. Он ненавидел «подлое», плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких «царьков» Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового «царя» скифской земли – с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упрямца и сумасшедшего?
Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения.
Эклер при Нэпе
В надвигающемся безумии, в ощущении гибели того, что сам и выдумал, хитрец отменил половину собственного дела. Среди других последствий оказалось одно, малое для «событий», человеческому же сердцу видимое, милое, понятное.
Появился эклер – победа жизни. Его где-то пекли, но уже не тайком, а законно. Законно же и продавали – сладкий, гладко-глянцевитый эклер на Арбате, Никитской, где угодно, прямо на улице. Сколько миллионов спустил я на эти эклеры, на ласточек «слишком медленной весны», но все же ласточек, все же эклер, знак вольного творчества, личное, а не казарма.
В моего друга X. была влюблена барышня. Ее болезнь носила нежный, мечтательный, но и упорный характер. Они встречались иногда в обществе, на заседаниях. Но ей этого было мало. С упорством влюбленных она неожиданно являлась где-нибудь на углу Никитской и Спиридоновки, как раз когда он проходил, здоровалась, вспыхивала, бормотала несколько слов и исчезала.
Однажды в сухой августовский день пыль и коричневые листья летели по бульвару. X. выходил из переулка. И не удивился, встретив темные, застенчивые, но и полоумные глаза.
– Здравствуйте, – сказал он, как обычно; снял шапку, пожал ее горячую руку. Она молча сунула ему левой рукой теплый и глянцевитый эклер.
– Это вам… возьмите, вам…
Вспыхнула, слезы блеснули на глазах, и от любви, от смущения ничего уже больше не могла прибавить, убежала.
– Что же бы ты сделал с этим эклером? – спросил меня X.
– Я бы его съел.
– Вот именно. Я так и поступил.
– И я считал бы его очень трогательным и милым подарком.
– Так ведь оно и есть в действительности.
– Благодаря чему я сохранил бы славное, с улыбкою, воспоминание.
– Оно и сохранилось. Эклер же показался мне особо вкусным.
Федериго да Монтефельтро
На столе у меня лежит том Сизеранна о знаменитом урбинском кондотьере. Его носатый профиль вспоминается еще во Флоренции, по Пьеро делла Франческа в Уффици. Во время «великой» русской революции, работая над книгой об Италии, я изучал жизнь сына Федериго, меланхолического и несчастного Гвидобальдо.
Да, Италия и красота много помогли пережить страшное время. И, развертывая книгу, сейчас ощущаешь сразу три эпохи русского человека: первую, мирно-довоенную, поэтическую, когда Италия входила золотым светом. Вторую, трагическую, – в ужасе, ярости и безобразии жизни она была единственным как бы прибежищем. Рафаэль и божественная империя, Парнас и музы Ватикана умеряли бешенство скифа. И вот теперь – третья…
Как о ней сказать верно? – Революция кончилась. Но для нас кончилось и младенчески-поэтическое. Началась жизнь. Революция научила жизни. С прибрежья, где гуляли, любовались и позировали, – спустились мы в «бытие». Пусть ведет вечный Вергилий. Началось схождение в горький мир, в «темный лес». Да будет благословенна поэзия. Не забыть Аполлона, не забыть Рафаэля. Но иное а l’ordre du jour[80 - Является предметом заботы, злобой дня (франц.).]. Не позабудешь Италии и не разлюбишь ее. Но нельзя уже позабыть «человечества», его скорбного взора, его преступлений и бед, крестного его пути.
Федериго, уважаемый герцог, покоритель и завоеватель, книголюб, собравший лучшую библиотеку Ренессанса (считал, что напечатанная книга – дурной тон!), – вы теперь мирно будете стоять на полках той моей библиотечки, на которую с высоты своего урбинского замка вы и не взглянули бы, не удостоили б. Я прочту книгу о вас – и отложу. Я не буду в ней, ею жить. Эстет, воитель, государь – вы правы. Но и у меня есть своя правда. Ни вам, да никому вообще я ее не отдам.
М.О. Гершензон
Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, Староконюшенный, Николо- и Спасопесковский, Никольский. В тридцатом номере последнего обитает гражданин Гершензон.
Морозный день, тихий, дымный, с палевым небом и седым инеем. Калитка запушена снегом. Через двор мимо особняка тропка, подъем во второй этаж, и начало жития Гершензонова. Конец еще этажом выше, там две рабочие комнаты хозяина.
Гершензон маленький, черноволосый, очкастый, путано-нервный, несколько похожий на черного жука. Говорит невнятно. Он почти наш сосед. Иной раз встречаемся мы на Арбате в молочной, в аптеке или на Смоленском.
Сейчас, мягко пошлепывая валенками, ведет он наверх. Гость, разумеется, тоже в валенках. Но приятно удивлен тем, что в комнатах тепло. Можно снять пальто, сесть за деревянный простой стол арбатского отшельника, слушать сбивчивую речь, глядеть, как худые пальцы набивают бесконечные папиросы. В комнате очень светло! Белые крыши, черные ветви дерев, золотой московский купол – по стенам книги, откуда этот маг, еврей, вросший в русскую старину, извлекает свою «Грибоедовскую Москву», «Декабриста Кривцова». Лучший Гершензон, какого знал я, находился в этой тихой и уединенной комнате. Лучше и глубже, своеобразнее всего он говорил здесь, с глазу на глаз, в вольности, никем не подгоняемый, не мучимый, застенчивостью, некрасотой и гордостью. Вообще он был склонен к преувеличениям, извивался, мучительная ущемленность была в нем. Вот кому не хватало здоровья! Свет, солнце, Эллада – полярное Гершензону. Он перевел «Исповедь» Петрарки и отлично написал о душевных раздираниях этого первого в средневековье человека нового времени, о его самогрызении, тоске.
Но, разумеется, Гершензону приятно было и отдохнуть. Он отдыхал на александровском времени. И в мирном разговоре, под крик галок московских тоже отдыхал.
* * *
Я заходил к нему однажды по личному делу, и он помог мне. А потом – по «союзному»: Союз писателей посылал нас с ним к Каменеву «за хлебом». Так что в этой точке силуэт Гершензона пересекается в памяти моей со «Львом Борисовичем». Есть такой рассказ у Чехова: «Толстый и тонкий»…
* * *
О Каменеве надо начать издали. В юношеские еще годы занес меня однажды случай на окраину Москвы, в провинциальный домик тихого человека, г. X. Там было собрание молодежи, несмотря на безобидность хозяина, напоминавшее главы известного романа Достоевского или картину Ярошенки. Особенно ораторствовал молодой человек – самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой. Звали его Каменевым.
Прошло много лет. В революцию имя Каменева попадалось часто, но ни с чем для меня не связывалось: «тот» был просто юноша, «этот» председатель московского совета, «хозяин» Москвы. Что между ними общего?
Однажды вышел случай, что из нашего Союза арестовали двоих членов. Правление послало меня к Каменеву хлопотать. Он считался «либеральным сановником» и даже закрыл на третьем номере «Вестник» ЧК за открытый призыв к пыткам на допросах.
Чтобы получить пропуск, пришлось зайти в боковой подъезд бывшего генерал-губернаторского Дома на Тверской, с Чернышевского переулка. Некогда чиновник с длинным щелкающим ногтем на мизинце выдавал нам здесь заграничные паспорта.
Теперь, спускаясь по лестнице с бумажкою, я увидел бабу. Она стояла на коленях перед высоким «типом» в сером полушубке, барашковой шапке, высоких сапогах.
– Голубчик ты мой, да отпусти ты моего-то…
– Убирайся, некогда мне пустяками заниматься.
Баба приникла к его ногам.
– Да ведь сколько времени сидит, миленький мой, за что сидит-то…
…У главного подъезда солдат с винтовкой. Берут пропуск. Лестница, знакомые залы и зеркальные окна. Здесь мы заседали при Временном правительстве, опираясь на наши шашки, – Совет офицерских депутатов. Теперь стучали на машинках барышни. Какие-то дамы, торговцы, приезжие из провинции «товарищи» ждали приема. Пришлось и мне подождать. Потом провели в большой, светлый кабинет. Спиной к окнам, за столом сидел бывший молодой человек Марьиной рощи, сильно пополневший, в пенсне, довольно кудлатый, более похожий сейчас на благополучного московского адвоката. Он курил. Увидев меня, привстал, любезно поздоровался. Сквозь зеркальные стекла слегка синела каланча части, виднелась зимняя улица. Странный и горестный покой давала эта зеркальность, как бы в Елисейских полях медленно двигались люди, извозчики, детишки волокли санки. В левом окне так же призрачно и элегически выступали ветви тополя, телефонные проволоки в снегу, нахохленная галка…
Мы вспомнили нашу встречу. Каменев держался приветливо-небрежно, покровительственно, но вполне прилично.
– Как их фамилии? – спросил он об арестованных.
Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам.
– А за что?
– Насколько знаю, ни за что.
– Посмотрим, посмотрим…
Раздался звонок по телефону. Грузно, несколько устало сидя, поджимая под себя ноги, Каменев взял трубку – видимо, лениво.
– А? Феликс? Да, да, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду, непременно.