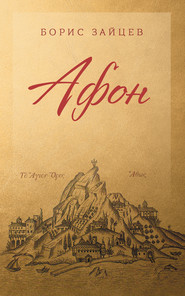По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут же он рисовал: все хотелось запомнить и изобразить. Близ Бастей, над Эльбою, с высоты отвесного утеса расстилался перед ним Божий мир. Словами вполне живописными и взволнованными изображает он его:
«И над всем этим неописанным разнообразием гор и долин вообразите тот же чудесный туман, волнующийся, летающий, но гораздо более прозрачный, так что по временам можно было различить все, что таилось под его воздушными волнами; но иногда вдруг он совершенно сгущался, и в эти минуты казалось, что стоишь на краю света, что земля кончилась и что за шаг от тебя уже нет ничего, кроме бездны неба».
Та же изобразительность, если не ярче, в описании Констанцкого озера:
«…Когда озеро спокойно, видишь жидкую, тихо-трепещущую бирюзу, кое-где фиолетовые полосы, а на самом отдалении яркий, светло-зеленый отлив; когда воды наморщатся, то глубина этих морщин кажется изумрудно-зеленою, и по ребрам их голубая пена, с яркими искрами и звездами; когда же облако закроет солнце, то воды, смотря по цвету облака, или бледнеют, или синеют, или кажутся дымными».
Так может писать только имеющий любовный, памятливо-точный глаз – мир близок и прекрасен, надо все запомнить, ничего не упустить.
Началось путешествие по Швейцарии. Подымался он на Риги-Кульм, видел Чертов Мост, Сэн Готард, спускался в Италию до Милана, назад на Женеву. Побывал и в Шильонском замке, что дало нашей литературе «Шильонского узника».
На лоне вод стоит Шильон;
Там в подземелье семь колонн…
Из Байрона взял самую не-байроновскую поэму. Обратил ее в меланхолически-нежный вздох.
Вот как написана смерть младшего из трех братьев – мучеников за веру:
Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне… увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах…
Легкая цепь смежных созвучий в четырехстопном ямбе с непременными мужскими рифмами – впечатление ясной и прозрачной печали, включенной в удивительную гармонию природную. Все очень трогательно, но это уж не карамзинский сентиментализм: эпоха Пушкина и Лермонтова. Ей Жуковский предтеча. Пушкин был еще полуучеником, Лермонтов вовсе ребенком. Пушкин испугался даже, что некоторые строки «Братьев разбойников» его как бы и от «Шильонского узника». («Мцыри» всей поступью своею – при полной мужественности – тотчас вспоминается, как только берешься за «Узника».)
Из Вевэ Жуковский проехал во Фрейбург, побывал в Люцерне, видел «Умирающего льва», дальше путь его к Цюриху. Шафгаузенский водопад опять дал возможность блеснуть описанием (все это, как и письма саксонские, направлялось Александре Федоровне. Все было литература, вошло в собрание сочинений).
Путешествие же заканчивалось. Оно питало и укрепляло его, художника уже зрелого, в расцвете сил, силам этим давало новый уклон. Он узнал новых людей (среди них, хоть и мимолетно, самого Гёте). Видел новые страны, новую жизнь, испытал новые чувства. Осенью в Берлине оказался автором первейших пьес – «Орлеанской девы», «Шильонского узника». Вряд ли в Белеве написал бы их. В альбомах сохранились и его рисунки.
Путешествием обязан он двору. Двор его вывез с Александрою Федоровной, двор разрешил и теперь провести остаток года в Берлине. Но никто не подумал в то время об одном странном влиянии, которое оказал Запад на Жуковского: он физически ощутил невозможность крепостного права. «Аннибаловых клятв», как Тургенев, не давал, но, вернувшись, отпустил на волю своих четверых «людей». Так что и дальше не зря именно он будет обучать будущего царя-освободителя.
Милые сердцу
В повествовании своем поворачиваю назад, снова к Дерпту.
С самого переезда сюда начала Маша переписку с кузиною Дуней (Киреевской, позже Елагиной). Эти смиренные письма сохранились, на радость литературе нашей. В них нет горизонтов. События исторические – мимо. Лишь человек, его жизнь и томления, незаметное, как бы и бледное существование: но вот оно полно трогательности и значения.
Дуню она обожает с детства. Та живет сейчас далеко от Дерпта – в Долбине, в краях Мишенского и Муратова, туда все думы, чувства.
«Когда мне бывает грустно очень и неожиданно вдруг сделается полегче, то я тебя благодарю за это; мне кажется, что в эти ужасные минуты мой ангел-хранитель научает тебя за меня молиться». Дуня более бурнопламенна. И тоже ее обожает – так всегда было. («Помнишь ли, как ты боялась, чтобы тебя не спасли прежде меня?») Быть спасенной в болезни, если бы Маша погибла, было бы для Дуни несносно. И в разгар тягостей и борьбы за свадьбу Маши с Жуковским предлагала же она – если венчаться им из-за родства грех, так она, Дуня, пойдет в монастырь, там будет замаливать прегрешение. Авдотья Киреевская такая и была. Половинчатости в ней нет.
Страстная, но и требовательная. В переписке местами есть ревность, шипы и тернии. Очарователен дух интимности. Маша называется иногда «Ге» – так прозвали ее Дунины дети (будущие известные славянофилы). Вдруг появляется какой-то «Клушин» – будто фамилия, но это кличка, шифр выражает некоторое настроение души («У меня нынче был Клушин»).
Дуня не одобряла, что Маша решила выйти замуж за Мойера. Жуковского она возносила не менее Маши, считала, что брак с Мойером нечто «против Жуковского», вероятно и полагала, что за свое и его счастье надо бороться упорнее, – если бы с нею такое произошло, вряд ли она уступила бы. Но у Маши иной характер, с детства слишком она в руках матери и слишком вообще в жизни из обреченных, ведомых на заклание. Да и душевно у них в Дерпте все было запутано.
Жуковский с Мойером подружились, всё желали друг другу счастия и всё заговаривали друг друга возвышенными словами. Где ж устоять смиренной мечтательнице? «Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастия, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его»…
Все трое найдут счастье в браке Маши и Мойера – это надо было придумать! И вот ровно на другой день пишет она в Долбино: «Дуняша, мне иногда часто бывает тяжело, очень тяжело, но это пройдет». Через два дня: «А ты, моя душа, ты всегда присутствуешь в хорошем и дурном, в радости и неприятности. Ты связана со всеми чувствами и любить тебя есть то же, что дышать». (В другом месте о своем сердце: «оно твое крепостное».)
Какой бы поток слов ни изливался, выходить замуж – хоть и за отличного человека, любя другого…
«Je t’avoue, Eudoxie, que le moment o? je me suis dеcidе a еtе affreux, mais Dieu a tant fait pour moi, que je le remercie pour la rеsolution que j’ai prise»[15 - «Признаюсь тебе, Авдотья, что то мгновенье, когда я решилась, было ужасно, но Бог столько сделал для меня, что я благодарю его за решение, которое приняла» (франц.).].
Это апрельское настроение. И все лето невесело.
Осенью еще хуже. Ряд писем Дуне и вовсе не отправлен, из-за грусти. А время подходит к свадьбе. В декабре 1816 года брак ее с Мойером открыто уже возвещается – предсвадебные визиты и развоз карточек по бесконечным родным и знакомым Мойера – 278 извещений! «Сегодня приезжают к нам отдавать карточки, а мы сидим в задней комнате и погасили все огни в гостиной». «Как я ни уверена в своем счастии, но мне так страшно, что я бы рада совсем умереть».
С этим будущим счастием, от которого лучше умереть, поздравляет ее некто, в церкви услышавший оглашение помолвленных – оттого и решился поздравить открыто. А она чуть не заплакала от поздравления – «отчего, сама не знаю. Дунька, дай Бог мне счастия, не правда ли?». К свадьбе должны съехаться бесчисленные родные Мойера, из разных мест, даже из Выборга – кузен Тидеболь с женой и детьми, друг Цокель и всякие еще другие. «Я готова закричать, как Варлашка[16 - Воспоминание детства: домашний шут у старого Бунина.]: «Боюсь!»
В январе 1817 года, чрез неделю после венчания, Маша пишет кузине, что в замужестве счастлива и для нее началась жизнь иная (преимущество перед прежней в том, что теперь рядом не сумасбродный Воейков, а тихий, ученый врач, деятель, музыкант, филантроп, но скорей «брат», чем муж: Иван Филиппович Мойер).
Они поселились отдельно. Екатерина же Афанасьевна осталась, как прежде, со Светланою и Воейковым. Воейков от брака Маши был в ярости – его не спросили, это давало ей независимость и ослабляло его долю в управлении Муратовом. Да и вообще он разыгрался. Светлана запиралась от его скандалов у себя, страдала молча. Но теперь и Екатерина Афанасьевна узнала, что такое оскорбления: нападал он и на нее, требовал денег, а однажды изругал, как служанку.
Только с Машей ничего уж не поделаешь. Это его злило. Маша теперь г-жа Мойер, живет в надежном укрытии, в крепко слаженном и серьезном доме. Туда в пьяном виде не ворвешься, безобразия не учинишь.
Дом и жизнь Мойера были устроены на германско-европейский лад. Ничего от Мишенских, Долбиных. Никакого крепостничества. Ни широты и поэзии, ни распущенности барства. Порядок, труд, мещанское благополучие… – и серость.
С утра Мойер в университете, по больным. Маша работает дома, заходит «к маменьке». В третьем часу обедают, до трех Мойер спит, до четырех прием – дом наполняется разными людьми: мужчины и дамы, дети, купцы, мещане, чухонцы, бароны, графы. «Иному вырывает Мойер зуб, другому пишет рецепт, третьему вырезывает рак, четвертому прокалывает бельмо, и всякий кричит на разные голоса».
Между 4–5 Мойер запирается у себя «в горнице», готовится к лекциям. «В пять сани готовы и он едет в университет, а я ухожу в свою горницу». Тут Маша читает – по плану, сделанному еще в Муратове: рука Жуковского, все как и прежде. Где Жуковский, там тоже распорядок, в своем роде не хуже мойерского. К этому Маша привыкла с детства.
Приходит Саша, любимая Светлана, «бостон, пикет, фортепиано». Сестра Мойера наливает чай, стряпает кушанье и разговаривает. Мойер же приезжает в девять. В десять ужинают, в одиннадцать ложатся.
В эту жизнь, когда приезжает в Дерпт, входит Жуковский. Как и прежде, он свой и любимый, как всегда «непричем» у чужой, как-то устроенной жизни.
Его уважают и ценят и в обществе, и в университете, и русские, и немцы (некий Зенфт выразился о нем: «Жуковский необыкновенный человек, obgleich ein Russe»[17 - Хотя он русский (нем.).] – Маше пришлось защищать родину). С этим светилом залетным дружит и Мойер, на это есть основания. Есть просто и сходственные черты в обоих.
Иногда они проявляются.
Вот выходит Жуковский на прогулку. Зима, холодно. На углу нищий – курляндец с отмороженными ногами сидит на камне. Жуковский дает ему пять рублей, идет дальше. Нет, мало дал. Возвращается – еще пять, снова уходит. Снежком завевает в Дерпте этом, плоском и мирном. Прокатил на тяжелых лошадях в высоких санях ректор, Жуковский почтительно с ним раскланивается. Курляндец позади, но все не выходит из головы. «У меня двести рублей, а у него только десять» – возвращается, дает еще пятьдесят. Опять идет, слегка в горку к церкви. «Да, у меня обе ноги целы, могу еще и прогуливаться и в кармане полтораста, а ему каково?» Опять назад и еще пятьдесят.
Вряд ли часто встречал курляндец такого странного путника. Вряд ли Жуковский далеко ушел бы в тот день, если бы нищий, в полном восторге, не сдвинулся со своего камня (может быть, и опасался, что назад отберут: слишком уж непривычная сумма). Сдвинулся и добрался до почтовой помощницы Лангмахер, где из милости в углу и ютился. Она записывала доходы его каждый вечер. Ей все и рассказал. Выручка нынче была несметная.
А курляндцу продолжало везти. Через несколько времени у камня его остановился другой господин, в очках, с добрыми подслеповатыми глазами, в малых бакенах, с выбритыми усами и подбородком, в высоком галстуке и солидной шубе – нечто основательно-благожелательное. Тоже дал денег, потом посмотрел на ноги, задумался.
И очень скоро курляндец оказался в лучшей дерптской клинике. Добрый Самарянин в очках устроил его там бесплатно. Вынужден был одну отнять, а другую лечил и вылечил. Его звали Иван Филиппович Мойер. Он был муж Маши и тот смирный похититель счастья Жуковского, при котором надеялся тот создать счастье для всех троих.
Что могло выйти из этого счастья, предвидеть нетрудно, но семейную и повседневную опору в муже Маша нашла.
Тем же летом и осенью много перемен произошло вокруг: Дуня Киреевская, после пятилетнего вдовства, вышла замуж за А.А. Елагина. Умерла Анна Ивановна Плещеева, жена «негра», красавица «Нина», инициалы которой в двенадцатом году приняли подгулявшие помещики за наполеоновские. Воейков написал гнусное письмо Елагиным о Маше (будто она была любовницей Жуковского), и та две ночи не спала, все плакала – потом простить себе не могла, что из-за этого столько страдала. Сколько Светлана плакала за эти годы, мы учесть не можем – у нее характер оказался самый замкнутый, прежнее веселье девочки заключилось теперь в строгий образ страдающей сильфиды.
А Жуковский в это время то в Москве со двором Александры Федоровны, то в Петербурге, наезжает и в Дерепт. Как всегда, за парадной стороной его придворной жизни тайная и глубокая сердечная. Где бы он и Маша ни находились, чем бы ни занимались, они связаны подземно-неразрывно. Может быть, друг друга даже на расстоянии воспитывают, возводят ступенью выше – и все идет чрез острую тоску, сменяемую воодушевлением и вновь тоской.
Дуня Елагина в 1818 году беременна, и Маша пишет ей: «Благословляю твою пузу», ей самой скоро предстоит то же, а пока она признается, что привязанность ее к Мойеру «не уравновесила ее чувств». Это ее «благодетель», благодаря ему обрела она некий «покой» – но не больше. Иван Филиппович этого письма не видал. Было ли бы оно ему приятно?