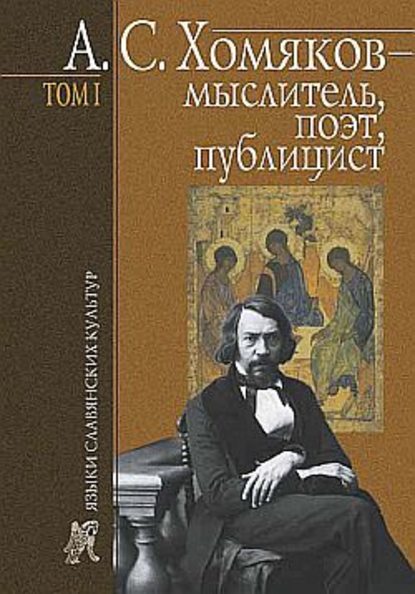По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Графиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811–1858) была племянницей литератора Николая Васильевича Сушкова (1796–1871) – конфидента и биографа московского святителя Филарета (Дроздова); незадолго до своей кончины она через дядю испросила для себя у митрополита наперсный образок, прижимая который к груди, отошла ко Господу. Ф. И. Тютчев, приходившийся Сушкову деверем, посвятил Ростопчиной два стихотворения. Искренняя дружба связывала ее с В. А. Жуковским, который подарил ей пушкинский альбом для стихов. К Хомякову Жуковский относился с не меньшей теплотой и участием. Что же касается святителя Филарета, то, хотя первоначально Алексей Степанович встретил в нем «особенное сочувствие»[120 - Там же. С. 432.], тот смотрел на труды светского богослова с известной настороженностью, упомянув в одном из писем к лаврскому архимандриту Антонию о его «суемудрии»[121 - Филарет (Дроздов), митрополит Письма к лаврскому архимандриту Антонию. М., 1883. Т. IV. С. 41.]. Ф. И. Тютчев даже полагал, что именно Филарет препятствовал изданию богословских сочинений Хомякова в России[122 - См.: Тютчев Ф. И. Письмо Ю. Ф. Самарину от 24.XI.1867 // Литературное наследство. М., 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 426.].
Таким образом, у двух поэтов было немало общих друзей и знакомых в литературных и церковных кругах, и их противостояние – как двух ярких носителей «русской стихии» – на этом фоне представляется особенно контрастным. Взаимная враждебность их усиливалась, скорее всего, и некоторым сходством характеров.
Графиня считала Алексея Степановича Хомякова своим «личным врагом», а потому не упустила случая отплатить ему «зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству».
Как известно, в 1854 году, во время Крымской кампании, в которой во главе дружины московского ополчения участвовал и брат Е. П. Ростопчиной Сергей Петрович Сушков (1816–1893)[123 - Позднее в Париже он участвовал в издании журнала L’Union Chrеtienne. Хомяков в письме к С. М. Сухотину от 16 июля 1860 года критиковал его за недостаточно решительный отпор князю Гагарину, перешедшему в католицизм (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 444–445).], Хомяков написал и распространил стихотворение «России», содержавшее такие строки:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!..[124 - Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 136.]
Реакция на эти стихи была весьма разнообразной. Они были приняты «на ура» в стане либерально-демократическом, но большая часть интеллигенции была ими возмущена.
Хомяков признавался К. С. Аксакову: «Меня заваливают по городской почте безымянными пасквилями (даже с онёрами извозчичьей речи), а в клубе называли даже изменником, подкупленным англичанами»[125 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 346.].
Князь П. А. Вяземский писал по поводу этих стихов: «Последний стих решительно неуместный и лишний. Таким укорительным и грозным языком могли говорить боговдохновенные пророки. Но в наше время простому смертному, хотя бы и поэту, подобает быть почтительнее и вежливее с матерью своею; добрый сын Ноя прикрыл плащом слабость и стыд своего отца»[126 - Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1883..Т. VIII. С. 486.]. Согласно свидетельству О. М. Бодянского, большинству эти стихи показались неуместными: «Словом, – писал он, – певец сплошал: Россия не Неневия, а Хомяков не Еремия, — как-то пришлось мне выразиться в одном доме на вечере, когда зашла речь об этом: хоть и родился в день Еремии, — кто-то заметил мне тут из слушающих»[127 - Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1899. Т. XIII. С. 45.]; П. И. Бартенев также отмечал, что стихотворение «пробудило негодование не только петербургских властей (в особенности наследника престола), но и многих москвичей»[128 - Цит. по: Там же. С. 47.].
Надежда Васильевна Арсеньева, близкая знакомая Ростопчиной, написала к Хомякову послание, начинавшееся словами: «Стыдись, о сын неблагодарный, отчизну-матерь порицать»[129 - Цит. по: Евсеева М. К. Арсеньева Надежда Васильевна // Русские писатели. 1800– 1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 109.]. А сама Евдокия Петровна опубликовала стихотворную отповедь ему:
Сам Бог сказал: «Чти мать свою!».
И грех тебе, о сын лукавый,
Когда, враг материнской славы,
Позоришь бранию неправой
Ты мать родимую твою!
Когда, в лжемудрости надменной
И честь, и совесть погубя,
Разишь рукою дерзновенной
Грудь, воскормившую тебя!..[130 - Ростопчина Е. Соч. СПб., 1890. Т. 1. С. 150–151. Здесь под названием «Ответ некоторым безыменным стихотворениям»; датируется апрелем 1854 года. Место и время первой публикации не указаны. В сборнике «Письма к А. В. Дружинину» (М., 1948. С. 272) сообщается, что стихотворение было напечатано в «Современнике» (1853. № 11. С. 150), однако это недоразумение.]
В связи с этой публикацией Ростопчина обратилась к М. П. Погодину: «А читали ли вы мой ответ на Иеремиевское проклятие всей святой Руси вашего постника и славянофила Хомякова… Неужели вы разделяете мнение нового Иеремии[131 - Тему своего дня рождения Хомяков обыграл в письме к графине А. Д. Блудовой от 2 апреля 1850 года: «Хоть я и родился в день пророка Иеремии, все-таки не считаю приличным напоминать о себе плачем, или слезы свои выставлять напоказ; да и вообще они не идут к моему слогу и составили бы странную дисгармонию с шуткою, без которой нельзя, по моему мнению, ни говорить, ни писать» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 394).] и довольны его гнусными клеветами против России и ее народа»[132 - Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIII. С. 44.].
Не прошло и десяти дней, как под мощным общественным давлением А. С. Хомяков вдруг почувствовал, что Россия уже раскаялась и ей уместно будет посвятить новое стихотворение, которое несколько смягчит впечатление от первого.
Он посылает 4 апреля А. Н. Попову вместе с письмом[133 - «Мне вдруг стало как-то жаль, – сетует в нем поэт, – что я нашей Руси наговорил столько горьких истин, хоть и в духе любви; стало как-то тяжело» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 406).] завершенную накануне пьесу под названием «Раскаявшейся России»:
Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой,
Не в буйстве смеха, песни шумной,
Не с звоном чаши круговой;
Но в силе трезвенной смиренья
И обновленной чистоты
На дело грозного служенья
В кровавый бой предстанешь ты.
……………………………………………
Иди! светла твоя дорога:
В душе любовь, в деснице гром,
Грозна, прекрасна, – Ангел Бога
С огнесверкающим челом!..[134 - Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. С. 137–138.]
Ростопчина тотчас отреагировала на это еще одним обращением к М. П. Погодину: «Дошли ли до Вас вторые стихи Хомякова, написанные под влиянием трусости? Хорош патриотизм!.. Долой маски, человек высказался весь. Прощайте, все это так гадко, что и говорить-то тошно. Христос с Вами»[135 - Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIII. С. 46–47.].
Но самым пространным и эмоциональным выражением ее негодования явилось письмо к А. В. Дружинину от 23 апреля 1854 года:
Вы уж, верно, знаете, – пишет здесь она, – что есть на свете знаменитый сикофант, фарисей, лицемер и славянофил – Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечёсаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, Православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом – любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря, как человек, который из вящщей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы, ненавидел бы и презирал бы отца, мать, братьев, жену, детей и прочее. – Этот-то славянофил и русофоб целые 15-ть лет проповедует о восстаньи Востока, о его возрожденьи, о гниеньи Запада, о унижении Альбиона (а он страшный англоман в пище и питье!)[136 - Хомяков, который, по его словам, был «горд Москвою», чувствовал в ней «какое-то родство с Лондоном и Англиею» (письмо к протоиерею Е. И. Попову от 29 марта 1848 // Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 248). Ему «непременно хочется иметь при детях англичанку», причем, если она «уже и пожила в России, это не беда; но новоприезжая лучше» (письмо к А. В. Веневитинову от 21 мая 1845 // Там же. С. 80). Надо заметить, что и Е. А. Боратынский в стихотворении «Дядьке-итальянцу» писал о благодати «нерусского надзора».], наконец, о каких-то неисповедимых путях России; а теперь, когда пришла пора народно-религиозной битвы, когда Восток отстаивает себя от Запада, а Россия с удивительным единодушием любви и веры защищает православных братьев, не щадя ни крови, ни земли, – теперь этому господину не по шерстке пришлось общее увлеченье, и он почел на нужное выступить на ходулях своей ячности, чтобы разругать Россию на повал и объявить ей, что он находит ее слишком преступною, чтоб воевать за дело Бога и креста. – Стихи его возбудили взрыв негодованья в образованной части общества, и я отвечала на них опроверженьем, вынужденным тем, что другая пиэса, в том же духе отрицанья, приписывалась мне и ходила под моим именем не только здесь и в столице, но даже и по губерниям и навлекла мне несколько упреков от безымянных, но приязненных и приличных, впрочем, корреспондентов. – Кроме того, г-н Хомяков, личный враг мой (потому что я некогда не захотела принять его немытой руки), давным-давно разглашает о мне разные небылицы, называет меня врагом Руси и Православия, западницей, Жорж-Зандисткой, приписывает мне низкие речи, мною никогда не говоренные. Стало быть, я имела полное женское право отплатить зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству, столь нежно им прежде воспеваемого, имела право уличить лицемера и выставить его на справедливый суд общества, им долго обморочиваемого. <…> – К вам <…> обращаюсь я, как к джентльмену, скажите – можно ли воздержаться от негодованья при таких двуличневых поступках и можно ли подавить в себе голос правды, громко вопиющей против мнимого пророка и святителя целой шайки безмозглых восхвалителей какой-то небывалой старины, каких-то нравов, преданий, прав, которые существовали только в их нездравом, непросвещенном уме?.. <…>
Они сочинили нам какую-то мнимую древнюю Русь, к которой они хотят возвратить нас, несмотря на ход времени и просвещенья; они проповедуют напыщенно вздоры, от которых портятся и глупеют целые поколенья полувоспитанных и бессознательных мыслителей, которые, вместо того чтоб выполнять долг человека и трудиться, идя вперед к настоящему развитию и улучшению человека, озираются назад и жалеют о бараньей шкуре и пьяной браге предков-дикарей. И изобличает себя эта партия уже тем, что ее наружная неопрятность и запущенность служит как бы вывеской ее внутренному грязному застою?.. Наконец, эти люди убили нам Языкова во цвете лет, удушили его талант под изуверством; эти же люди уходили Гоголя, окормя его лампадным маслом, стеснив его в путах суеверных обрядов запоздалого фанатизма, который для них заменяет широкую благодать настоящей веры, коей признак есть терпимость и любовь, а не хула и анафема! Вот за что я спорю с этою шайкою московских мудрецов и постников, вот за что я презираю их лжедобродетель, как личину, скрывающую алчность, эгоизм, гордость, честолюбие и вражду к человечеству из любви к могилам и скелетам[137 - Письма к А. В. Дружинину (1850–1863). М., 1948. С. 267–271.].
Столь резкие и эмоциональные высказывания графини в гротескной форме отражают реальное восприятие Хомякова и славянофилов немалой частью русской интеллигенции того времени. У М. А. Дмитриева не было никакого повода испытывать к поэту чувство личной обиды. Даже не затрагивая «антипатриотических» стихов Хомякова, он судил о нем весьма строго, противопоставляя ему И. В. Киреевского (который «всех скромнее и воздержаннее в речах, всех основательнее и рассудительнее в этом кружке»[138 - В этой оценке М. А. Дмитриев сходился с кн. П. А. Вяземским. Киреевский, по словам князя, «какими-то волнами был закинут на антиевропейский берег, но и тут явил какую-то девственную чистоту и целомудрие новых своих убеждений» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 346).]):
Лучшее в нем было то, что он имел несомненный талант к поэзии. Он знал много иностранных языков и мог бы быть одним из просвещеннейших людей, если бы захотел употребить на дело свои сведения, которых у него было много. Но он нахватал их самоучкой, без всякой системы, и не был привязан основательно ни к одной части знания, а хотел быть всё: и поэт, и антикварий, и богослов, и гомеопат, и механик, и живописец, и философ, и агроном, и политик, и великий постник, и даже собачий охотник; говорил и спорил обо всем и со всеми и не успел сделать и написать почти ничего, а имение оставил в расстройстве. За беспрестанным движением языка ему некогда было остановиться, помолчать и подумать: легкомысленная погоня за эфемерною известностию не давала ему покоя и поглощала все его способности. Вся его цель была, кажется, прославление имени своего чем бы то ни было, одним словом, шарлатанство, которым всего скорее получишь у нас славу и уважение. Но этот второй способ дешевой известности допускается у нас, однако, под условием взаимного восхваления. Хомяков понимал это мастерски: он поддерживал своими неистощимыми спорами партию славянофилов, Аксакова с братиею, которые и не замечали в своей невинности, что они же становятся его орудием, и превозносили в нем универсального гения, маленького Pico della Mirandola![139 - Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 441.]
С такой критической, но выраженной в иной тональности оценкой пишет о Хомякове Александр Васильевич Никитенко. В своем «Дневнике» 20 января 1856 года он записывает:
Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зало министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил неумолкно и большей частью по-французски – как и следует представителю русской народности. Встреча его со мной была несколько натянута, ибо он не без основания подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, и я обратился прямо к этому предмету, сказав, что ничего не может быть желательнее, как чтобы каждый имел возможность высказывать свои убеждения. Это тотчас развязало нам языки, и мы пустились рассуждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, кажется, не без того, что называется себе на уме[140 - Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 429. Хомяков в свою очередь в письме к Ю. Ф. Самарину (30 мая 1847 г.) упрекает его «в излишнем уважении к одному из противников, к Никитенке», отчасти, правда, тут же оправдывая адресата: «Но вы его, кажется, несколько любите, и кроме того, бесстрастие и даже снисходительность, может быть, необходимы» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 268).].
Слегка ироничный отзыв Никитенко заставляет все же думать, что резкие высказывания гр. Е. П. Ростопчиной и М. А. Дмитриева были не совсем беспочвенны; в поведении Хомякова действительно наличествовали элементы эксцентричности, нарочитого фрондерства, а его мысли и формы их выражения не всегда представляли собой образец голубиной простоты.
Сам Хомяков подтверждает это предположение. В письме к графине Блудовой он признается: «Разумеется, если б можно было думать о печати, я сказал бы, что слова “И игом рабства клеймена” (слишком резко определяющие крепостное состояние) можно заменить “И двоедушьем клеймена”. Также поставить другое – на место “всякой мерзости полна”. <…> Во всяком случае надеюсь, что вы признаете, что я говорю не по духу эгоистического фрондерства»[141 - Там же. С. 405–406.].
То, что от его стихов веет именно «духом эгоистического фрондерства» Хомяков, очевидно, догадывался. От Блудовой он ожидал слов, успокаивающих его встревоженную совесть.
Аналогичной поддержки ждала и Ростопчина от А. В. Дружинина («Скажите, скажите, ошибаюсь ли я? <…> Дайте мне голос правды в этой тревоге ума и сердца, слишком сильной для женской слабости!»).
Эксцентричность, фрондерство и эпатаж на самом деле были не совсем чужды обоим поэтам. О хомяковской мурмолке и «грязной руке» уже было говорено[142 - Но нелишним будет и свидетельство М. А. Дмитриева: «Хомяков (...) сшил себе тоже какой-то особого покроя кафтан, названный им святославкою, и носил уродливую шапку, названную мурмолка! До такой степени шутовства дошло их направление!» (Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 440).]. Различные письма Хомякова, в которых он разносит в пух и прах историков, филологов, медиков, дает советы в области политики и военной тактики, возможно, верные и бескорыстные, в своей совокупности способны оставить ощущение некоторого самолюбования[143 - Вот несколько примеров: «Г-н Буслаев, преподаватель сравнительной филологии в России, не подозревает даже свойств своего родного языка и народа, который в этом языке высказывается. (...) Я бы многое мог объяснить г-ну Буслаеву» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. Приложение. С. 39); «Едва ли не я один в русской армии был на Шумлинской горе; но дорога, мною найденная, осталась никому неизвестной» (Там же. С. 45); «Делаю нынешнею зимою опыт ружья моего изобретения» (Там же. С. 220); «Разбираю шведские древности, выдумал сеяльницу (просто чудо), улучшаю жатвенную машину и спорю с И. С. Аксаковым об устройстве и внутреннем смысле третейского суда» (Там же. С. 212); «Два портрета я сделал: один уже кончил, и оба очень хорошие и очень похожие» (Там же. С. 211); «Я бью теперь холеру налету: не только у себя, но и у соседей я ее совершенно прекращаю в два-три дня» (Там же. С. 181).]. Не приходится забывать и о его не лишенной амбициозности мистификации – намерении выдать свою статью «Церковь одна» за древний памятник, переведенный с греческого, едва ли не святоотеческое сочинение. «Покойный Д. А. Валуев, – пишет он Ю. Ф. Самарину, – нашел греческую рукопись (кем писанную, греком или другим каким православным, неизвестно), содержащую в себе изложение Православного учения, и вез ее в чужие края с намерением напечатать, находя ее весьма замечательною. К ней приделал он маленькое предисловие по-латыни, и вся рукопись составила бы около двух печатных листов. Мы, то есть здешние друзья Валуева, желали бы исполнить его намерение и напечатать рукопись, которая в России может встретить цензурные затруднения, а в Германии может или принести пользу, или по крайней мере обратить на себя внимание»[144 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 264 —265.].
Втянут был в эту мистификацию, сам того не ведая, и В. А. Жуковский[145 - «На днях пишу к Жуковскому и посылаю ему предисловие и введение к вещице (не моей), которую он хочет перевести и издать в Германии» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 440).], писавший Хомякову в 1847 году из Баден-Бадена: «Я только вчера получил от Вяземского, а он от Попова, рукопись, еще не принялся за чтение, начну его после Нового года. Но что же Вы будете с нею делать? Я все стою на том, что надо ее перевести на немецкий (а не на французский) язык и напечатать в Германии. Теперь именно та минута, в которую она здесь произведет великое действие»[146 - Цит по: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. Приложение. С. 28.].
Нет сомнений, что задуманная А. С. Хомяковым мистификация, вскоре, разумеется, раскрывшаяся, явилась бы для А. В. Никитенко еще одним доводом в пользу мнения, что он «себе на уме». А если присмотреться к его богословским утверждениям, то можно заметить, что по отдельным принципиальным вопросам они порой не вполне согласуются между собой[147 - В частности, по вопросу о Filioque Хомяков в статье «Еще несколько слов по поводу Западных исповеданий» (1857) писал: «Самый акт изменения символа был преступлением, нравственным братоубийством и заключал в себе ересь против веры Церкви в свое единство» (Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 190). В письме же к А. Ф. Гильфердингу (ок. 1854) акценты несколько смещены: «Вы знаете мое мнение, что изменения Символа и отторжение Запада от общения с Востоком были не делом пап (хотя папы содействовали) и не явлением чисто религиозным (хотя невежество в вопросе религиозном имело свое важное значение в разрыве). Отторжение Запада было следствием его политического усиления. Оно должно было совпасть с основанием Империи, сосредоточившей силы германского племени на римской почве» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 314).].
Что же касается графини, то при ее жизни Н. В. Сушков однажды посетовал на раздражительность и ожесточение своей племянницы, но позднее говорил совсем о другом: «В ней не было лукавства; откровенна и доверчива, как дитя, она не только прощала, но совершенно забывала обиды, которые в первую минуту сильно волновали женщину-поэта»[148 - Сушков С. Биографический очерк // Сочинения графини Ростопчиной. СПб., 1890. Т. 1. С. XLIII.].
Тем не менее графиня тоже не была чужда тяги к эксцентричности, хотя и безо всякой идеологической подоплеки, так сказать, из любви к искусству. Вот что пишет в своих воспоминаниях Николай Васильевич Берг (1823–1884), посетивший поэтессу в подмосковном Вороново:
В первый же день, как все обитатели дома и граф сошлись в обеденную залу и сели за стол, гостей поразило следующее зрелище: со двора, по широким каменным ступеням лестницы, поднимались две лошади, без всякой сбруи и уздечек, осторожно вошли в комнату и стали рядом позади графини, как бы два ее лакея. Несмотря на то, что все комнаты в доме были громадны, большие лошади, на полной свободе разгуливавшие там, не казались… собачками. Каждого, не привыкшего к таким явлениям, к таким затеям русских бар, брал невольный страх, как бы эти странные «лакеи» не разыгрались, не вздумали скакать, бегать, не поломали бы мебели, пола и еще чего-нибудь.
Графиня давала им хлеба, трепала и гладила их по голове и шее. После обеда, когда все встали, лошадям было поставлено на двух стульях какое-то кушанье в тарелках. Одна ухватила нечаянно за край, и он отлетел.
Потом лошади стали ходить по всему дому и, воротившись в обеденную залу, точно так же осторожно спустились с лестницы, как взошли. Только одна не выдержала характера: когда осталось всего две-три ступеньки, – прыгнула на двор и при этом вышибла задней ногой из лестницы половицу[149 - Берг Н. В. Графиня Ростопчина в Москве (Отрывок из воспоминаний) // Ростопчина Е. П. Счастливая женщина. Литературные сочинения. М., 1991. С. 400.].
О другой затее графини, уже не столь невинной, рассказывает А. Д. Галахов со слов Н. Ф. Щербины, посещавшего ее литературные вечера: «Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова в кресло»[150 - Галахов А. Д. Записки человека. М., 1999. С. 231.].
Таким образом, «кафтан-святославку» и «шапку-мурмулку» Хомякова есть с чем сопоставить в арсенале графини Ростопчиной.
В своем отношении к Западу оба поэта тоже обнаруживают общие черты, одинаково склоняясь к резкому осуждению догматических новаций Рима. Хомяков не раз высказывался по поводу догмата о «непорочном зачатии» Девы Марии[151 - В одном из писем к И. С. Аксакову он упоминает «безумное мнение, недавно возведенное в догмат папою, о полной безгрешности Божией Матери» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 362).], а графиня Ростопчина этому посвятила стихотворение «С Востока на Запад! По поводу нового Латинского догмата: Dell’ Immaculata Concepzione» (1857):
Рим святотатственной рукою
Евангельских коснулся слов…
Таким образом, у двух поэтов было немало общих друзей и знакомых в литературных и церковных кругах, и их противостояние – как двух ярких носителей «русской стихии» – на этом фоне представляется особенно контрастным. Взаимная враждебность их усиливалась, скорее всего, и некоторым сходством характеров.
Графиня считала Алексея Степановича Хомякова своим «личным врагом», а потому не упустила случая отплатить ему «зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству».
Как известно, в 1854 году, во время Крымской кампании, в которой во главе дружины московского ополчения участвовал и брат Е. П. Ростопчиной Сергей Петрович Сушков (1816–1893)[123 - Позднее в Париже он участвовал в издании журнала L’Union Chrеtienne. Хомяков в письме к С. М. Сухотину от 16 июля 1860 года критиковал его за недостаточно решительный отпор князю Гагарину, перешедшему в католицизм (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 444–445).], Хомяков написал и распространил стихотворение «России», содержавшее такие строки:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!..[124 - Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 136.]
Реакция на эти стихи была весьма разнообразной. Они были приняты «на ура» в стане либерально-демократическом, но большая часть интеллигенции была ими возмущена.
Хомяков признавался К. С. Аксакову: «Меня заваливают по городской почте безымянными пасквилями (даже с онёрами извозчичьей речи), а в клубе называли даже изменником, подкупленным англичанами»[125 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 346.].
Князь П. А. Вяземский писал по поводу этих стихов: «Последний стих решительно неуместный и лишний. Таким укорительным и грозным языком могли говорить боговдохновенные пророки. Но в наше время простому смертному, хотя бы и поэту, подобает быть почтительнее и вежливее с матерью своею; добрый сын Ноя прикрыл плащом слабость и стыд своего отца»[126 - Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1883..Т. VIII. С. 486.]. Согласно свидетельству О. М. Бодянского, большинству эти стихи показались неуместными: «Словом, – писал он, – певец сплошал: Россия не Неневия, а Хомяков не Еремия, — как-то пришлось мне выразиться в одном доме на вечере, когда зашла речь об этом: хоть и родился в день Еремии, — кто-то заметил мне тут из слушающих»[127 - Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1899. Т. XIII. С. 45.]; П. И. Бартенев также отмечал, что стихотворение «пробудило негодование не только петербургских властей (в особенности наследника престола), но и многих москвичей»[128 - Цит. по: Там же. С. 47.].
Надежда Васильевна Арсеньева, близкая знакомая Ростопчиной, написала к Хомякову послание, начинавшееся словами: «Стыдись, о сын неблагодарный, отчизну-матерь порицать»[129 - Цит. по: Евсеева М. К. Арсеньева Надежда Васильевна // Русские писатели. 1800– 1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 109.]. А сама Евдокия Петровна опубликовала стихотворную отповедь ему:
Сам Бог сказал: «Чти мать свою!».
И грех тебе, о сын лукавый,
Когда, враг материнской славы,
Позоришь бранию неправой
Ты мать родимую твою!
Когда, в лжемудрости надменной
И честь, и совесть погубя,
Разишь рукою дерзновенной
Грудь, воскормившую тебя!..[130 - Ростопчина Е. Соч. СПб., 1890. Т. 1. С. 150–151. Здесь под названием «Ответ некоторым безыменным стихотворениям»; датируется апрелем 1854 года. Место и время первой публикации не указаны. В сборнике «Письма к А. В. Дружинину» (М., 1948. С. 272) сообщается, что стихотворение было напечатано в «Современнике» (1853. № 11. С. 150), однако это недоразумение.]
В связи с этой публикацией Ростопчина обратилась к М. П. Погодину: «А читали ли вы мой ответ на Иеремиевское проклятие всей святой Руси вашего постника и славянофила Хомякова… Неужели вы разделяете мнение нового Иеремии[131 - Тему своего дня рождения Хомяков обыграл в письме к графине А. Д. Блудовой от 2 апреля 1850 года: «Хоть я и родился в день пророка Иеремии, все-таки не считаю приличным напоминать о себе плачем, или слезы свои выставлять напоказ; да и вообще они не идут к моему слогу и составили бы странную дисгармонию с шуткою, без которой нельзя, по моему мнению, ни говорить, ни писать» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 394).] и довольны его гнусными клеветами против России и ее народа»[132 - Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIII. С. 44.].
Не прошло и десяти дней, как под мощным общественным давлением А. С. Хомяков вдруг почувствовал, что Россия уже раскаялась и ей уместно будет посвятить новое стихотворение, которое несколько смягчит впечатление от первого.
Он посылает 4 апреля А. Н. Попову вместе с письмом[133 - «Мне вдруг стало как-то жаль, – сетует в нем поэт, – что я нашей Руси наговорил столько горьких истин, хоть и в духе любви; стало как-то тяжело» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 406).] завершенную накануне пьесу под названием «Раскаявшейся России»:
Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой,
Не в буйстве смеха, песни шумной,
Не с звоном чаши круговой;
Но в силе трезвенной смиренья
И обновленной чистоты
На дело грозного служенья
В кровавый бой предстанешь ты.
……………………………………………
Иди! светла твоя дорога:
В душе любовь, в деснице гром,
Грозна, прекрасна, – Ангел Бога
С огнесверкающим челом!..[134 - Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. С. 137–138.]
Ростопчина тотчас отреагировала на это еще одним обращением к М. П. Погодину: «Дошли ли до Вас вторые стихи Хомякова, написанные под влиянием трусости? Хорош патриотизм!.. Долой маски, человек высказался весь. Прощайте, все это так гадко, что и говорить-то тошно. Христос с Вами»[135 - Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIII. С. 46–47.].
Но самым пространным и эмоциональным выражением ее негодования явилось письмо к А. В. Дружинину от 23 апреля 1854 года:
Вы уж, верно, знаете, – пишет здесь она, – что есть на свете знаменитый сикофант, фарисей, лицемер и славянофил – Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечёсаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, Православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом – любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря, как человек, который из вящщей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы, ненавидел бы и презирал бы отца, мать, братьев, жену, детей и прочее. – Этот-то славянофил и русофоб целые 15-ть лет проповедует о восстаньи Востока, о его возрожденьи, о гниеньи Запада, о унижении Альбиона (а он страшный англоман в пище и питье!)[136 - Хомяков, который, по его словам, был «горд Москвою», чувствовал в ней «какое-то родство с Лондоном и Англиею» (письмо к протоиерею Е. И. Попову от 29 марта 1848 // Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 248). Ему «непременно хочется иметь при детях англичанку», причем, если она «уже и пожила в России, это не беда; но новоприезжая лучше» (письмо к А. В. Веневитинову от 21 мая 1845 // Там же. С. 80). Надо заметить, что и Е. А. Боратынский в стихотворении «Дядьке-итальянцу» писал о благодати «нерусского надзора».], наконец, о каких-то неисповедимых путях России; а теперь, когда пришла пора народно-религиозной битвы, когда Восток отстаивает себя от Запада, а Россия с удивительным единодушием любви и веры защищает православных братьев, не щадя ни крови, ни земли, – теперь этому господину не по шерстке пришлось общее увлеченье, и он почел на нужное выступить на ходулях своей ячности, чтобы разругать Россию на повал и объявить ей, что он находит ее слишком преступною, чтоб воевать за дело Бога и креста. – Стихи его возбудили взрыв негодованья в образованной части общества, и я отвечала на них опроверженьем, вынужденным тем, что другая пиэса, в том же духе отрицанья, приписывалась мне и ходила под моим именем не только здесь и в столице, но даже и по губерниям и навлекла мне несколько упреков от безымянных, но приязненных и приличных, впрочем, корреспондентов. – Кроме того, г-н Хомяков, личный враг мой (потому что я некогда не захотела принять его немытой руки), давным-давно разглашает о мне разные небылицы, называет меня врагом Руси и Православия, западницей, Жорж-Зандисткой, приписывает мне низкие речи, мною никогда не говоренные. Стало быть, я имела полное женское право отплатить зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству, столь нежно им прежде воспеваемого, имела право уличить лицемера и выставить его на справедливый суд общества, им долго обморочиваемого. <…> – К вам <…> обращаюсь я, как к джентльмену, скажите – можно ли воздержаться от негодованья при таких двуличневых поступках и можно ли подавить в себе голос правды, громко вопиющей против мнимого пророка и святителя целой шайки безмозглых восхвалителей какой-то небывалой старины, каких-то нравов, преданий, прав, которые существовали только в их нездравом, непросвещенном уме?.. <…>
Они сочинили нам какую-то мнимую древнюю Русь, к которой они хотят возвратить нас, несмотря на ход времени и просвещенья; они проповедуют напыщенно вздоры, от которых портятся и глупеют целые поколенья полувоспитанных и бессознательных мыслителей, которые, вместо того чтоб выполнять долг человека и трудиться, идя вперед к настоящему развитию и улучшению человека, озираются назад и жалеют о бараньей шкуре и пьяной браге предков-дикарей. И изобличает себя эта партия уже тем, что ее наружная неопрятность и запущенность служит как бы вывеской ее внутренному грязному застою?.. Наконец, эти люди убили нам Языкова во цвете лет, удушили его талант под изуверством; эти же люди уходили Гоголя, окормя его лампадным маслом, стеснив его в путах суеверных обрядов запоздалого фанатизма, который для них заменяет широкую благодать настоящей веры, коей признак есть терпимость и любовь, а не хула и анафема! Вот за что я спорю с этою шайкою московских мудрецов и постников, вот за что я презираю их лжедобродетель, как личину, скрывающую алчность, эгоизм, гордость, честолюбие и вражду к человечеству из любви к могилам и скелетам[137 - Письма к А. В. Дружинину (1850–1863). М., 1948. С. 267–271.].
Столь резкие и эмоциональные высказывания графини в гротескной форме отражают реальное восприятие Хомякова и славянофилов немалой частью русской интеллигенции того времени. У М. А. Дмитриева не было никакого повода испытывать к поэту чувство личной обиды. Даже не затрагивая «антипатриотических» стихов Хомякова, он судил о нем весьма строго, противопоставляя ему И. В. Киреевского (который «всех скромнее и воздержаннее в речах, всех основательнее и рассудительнее в этом кружке»[138 - В этой оценке М. А. Дмитриев сходился с кн. П. А. Вяземским. Киреевский, по словам князя, «какими-то волнами был закинут на антиевропейский берег, но и тут явил какую-то девственную чистоту и целомудрие новых своих убеждений» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 346).]):
Лучшее в нем было то, что он имел несомненный талант к поэзии. Он знал много иностранных языков и мог бы быть одним из просвещеннейших людей, если бы захотел употребить на дело свои сведения, которых у него было много. Но он нахватал их самоучкой, без всякой системы, и не был привязан основательно ни к одной части знания, а хотел быть всё: и поэт, и антикварий, и богослов, и гомеопат, и механик, и живописец, и философ, и агроном, и политик, и великий постник, и даже собачий охотник; говорил и спорил обо всем и со всеми и не успел сделать и написать почти ничего, а имение оставил в расстройстве. За беспрестанным движением языка ему некогда было остановиться, помолчать и подумать: легкомысленная погоня за эфемерною известностию не давала ему покоя и поглощала все его способности. Вся его цель была, кажется, прославление имени своего чем бы то ни было, одним словом, шарлатанство, которым всего скорее получишь у нас славу и уважение. Но этот второй способ дешевой известности допускается у нас, однако, под условием взаимного восхваления. Хомяков понимал это мастерски: он поддерживал своими неистощимыми спорами партию славянофилов, Аксакова с братиею, которые и не замечали в своей невинности, что они же становятся его орудием, и превозносили в нем универсального гения, маленького Pico della Mirandola![139 - Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 441.]
С такой критической, но выраженной в иной тональности оценкой пишет о Хомякове Александр Васильевич Никитенко. В своем «Дневнике» 20 января 1856 года он записывает:
Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зало министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил неумолкно и большей частью по-французски – как и следует представителю русской народности. Встреча его со мной была несколько натянута, ибо он не без основания подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, и я обратился прямо к этому предмету, сказав, что ничего не может быть желательнее, как чтобы каждый имел возможность высказывать свои убеждения. Это тотчас развязало нам языки, и мы пустились рассуждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, кажется, не без того, что называется себе на уме[140 - Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 429. Хомяков в свою очередь в письме к Ю. Ф. Самарину (30 мая 1847 г.) упрекает его «в излишнем уважении к одному из противников, к Никитенке», отчасти, правда, тут же оправдывая адресата: «Но вы его, кажется, несколько любите, и кроме того, бесстрастие и даже снисходительность, может быть, необходимы» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 268).].
Слегка ироничный отзыв Никитенко заставляет все же думать, что резкие высказывания гр. Е. П. Ростопчиной и М. А. Дмитриева были не совсем беспочвенны; в поведении Хомякова действительно наличествовали элементы эксцентричности, нарочитого фрондерства, а его мысли и формы их выражения не всегда представляли собой образец голубиной простоты.
Сам Хомяков подтверждает это предположение. В письме к графине Блудовой он признается: «Разумеется, если б можно было думать о печати, я сказал бы, что слова “И игом рабства клеймена” (слишком резко определяющие крепостное состояние) можно заменить “И двоедушьем клеймена”. Также поставить другое – на место “всякой мерзости полна”. <…> Во всяком случае надеюсь, что вы признаете, что я говорю не по духу эгоистического фрондерства»[141 - Там же. С. 405–406.].
То, что от его стихов веет именно «духом эгоистического фрондерства» Хомяков, очевидно, догадывался. От Блудовой он ожидал слов, успокаивающих его встревоженную совесть.
Аналогичной поддержки ждала и Ростопчина от А. В. Дружинина («Скажите, скажите, ошибаюсь ли я? <…> Дайте мне голос правды в этой тревоге ума и сердца, слишком сильной для женской слабости!»).
Эксцентричность, фрондерство и эпатаж на самом деле были не совсем чужды обоим поэтам. О хомяковской мурмолке и «грязной руке» уже было говорено[142 - Но нелишним будет и свидетельство М. А. Дмитриева: «Хомяков (...) сшил себе тоже какой-то особого покроя кафтан, названный им святославкою, и носил уродливую шапку, названную мурмолка! До такой степени шутовства дошло их направление!» (Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 440).]. Различные письма Хомякова, в которых он разносит в пух и прах историков, филологов, медиков, дает советы в области политики и военной тактики, возможно, верные и бескорыстные, в своей совокупности способны оставить ощущение некоторого самолюбования[143 - Вот несколько примеров: «Г-н Буслаев, преподаватель сравнительной филологии в России, не подозревает даже свойств своего родного языка и народа, который в этом языке высказывается. (...) Я бы многое мог объяснить г-ну Буслаеву» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. Приложение. С. 39); «Едва ли не я один в русской армии был на Шумлинской горе; но дорога, мною найденная, осталась никому неизвестной» (Там же. С. 45); «Делаю нынешнею зимою опыт ружья моего изобретения» (Там же. С. 220); «Разбираю шведские древности, выдумал сеяльницу (просто чудо), улучшаю жатвенную машину и спорю с И. С. Аксаковым об устройстве и внутреннем смысле третейского суда» (Там же. С. 212); «Два портрета я сделал: один уже кончил, и оба очень хорошие и очень похожие» (Там же. С. 211); «Я бью теперь холеру налету: не только у себя, но и у соседей я ее совершенно прекращаю в два-три дня» (Там же. С. 181).]. Не приходится забывать и о его не лишенной амбициозности мистификации – намерении выдать свою статью «Церковь одна» за древний памятник, переведенный с греческого, едва ли не святоотеческое сочинение. «Покойный Д. А. Валуев, – пишет он Ю. Ф. Самарину, – нашел греческую рукопись (кем писанную, греком или другим каким православным, неизвестно), содержащую в себе изложение Православного учения, и вез ее в чужие края с намерением напечатать, находя ее весьма замечательною. К ней приделал он маленькое предисловие по-латыни, и вся рукопись составила бы около двух печатных листов. Мы, то есть здешние друзья Валуева, желали бы исполнить его намерение и напечатать рукопись, которая в России может встретить цензурные затруднения, а в Германии может или принести пользу, или по крайней мере обратить на себя внимание»[144 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 264 —265.].
Втянут был в эту мистификацию, сам того не ведая, и В. А. Жуковский[145 - «На днях пишу к Жуковскому и посылаю ему предисловие и введение к вещице (не моей), которую он хочет перевести и издать в Германии» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 440).], писавший Хомякову в 1847 году из Баден-Бадена: «Я только вчера получил от Вяземского, а он от Попова, рукопись, еще не принялся за чтение, начну его после Нового года. Но что же Вы будете с нею делать? Я все стою на том, что надо ее перевести на немецкий (а не на французский) язык и напечатать в Германии. Теперь именно та минута, в которую она здесь произведет великое действие»[146 - Цит по: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. Приложение. С. 28.].
Нет сомнений, что задуманная А. С. Хомяковым мистификация, вскоре, разумеется, раскрывшаяся, явилась бы для А. В. Никитенко еще одним доводом в пользу мнения, что он «себе на уме». А если присмотреться к его богословским утверждениям, то можно заметить, что по отдельным принципиальным вопросам они порой не вполне согласуются между собой[147 - В частности, по вопросу о Filioque Хомяков в статье «Еще несколько слов по поводу Западных исповеданий» (1857) писал: «Самый акт изменения символа был преступлением, нравственным братоубийством и заключал в себе ересь против веры Церкви в свое единство» (Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 190). В письме же к А. Ф. Гильфердингу (ок. 1854) акценты несколько смещены: «Вы знаете мое мнение, что изменения Символа и отторжение Запада от общения с Востоком были не делом пап (хотя папы содействовали) и не явлением чисто религиозным (хотя невежество в вопросе религиозном имело свое важное значение в разрыве). Отторжение Запада было следствием его политического усиления. Оно должно было совпасть с основанием Империи, сосредоточившей силы германского племени на римской почве» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 314).].
Что же касается графини, то при ее жизни Н. В. Сушков однажды посетовал на раздражительность и ожесточение своей племянницы, но позднее говорил совсем о другом: «В ней не было лукавства; откровенна и доверчива, как дитя, она не только прощала, но совершенно забывала обиды, которые в первую минуту сильно волновали женщину-поэта»[148 - Сушков С. Биографический очерк // Сочинения графини Ростопчиной. СПб., 1890. Т. 1. С. XLIII.].
Тем не менее графиня тоже не была чужда тяги к эксцентричности, хотя и безо всякой идеологической подоплеки, так сказать, из любви к искусству. Вот что пишет в своих воспоминаниях Николай Васильевич Берг (1823–1884), посетивший поэтессу в подмосковном Вороново:
В первый же день, как все обитатели дома и граф сошлись в обеденную залу и сели за стол, гостей поразило следующее зрелище: со двора, по широким каменным ступеням лестницы, поднимались две лошади, без всякой сбруи и уздечек, осторожно вошли в комнату и стали рядом позади графини, как бы два ее лакея. Несмотря на то, что все комнаты в доме были громадны, большие лошади, на полной свободе разгуливавшие там, не казались… собачками. Каждого, не привыкшего к таким явлениям, к таким затеям русских бар, брал невольный страх, как бы эти странные «лакеи» не разыгрались, не вздумали скакать, бегать, не поломали бы мебели, пола и еще чего-нибудь.
Графиня давала им хлеба, трепала и гладила их по голове и шее. После обеда, когда все встали, лошадям было поставлено на двух стульях какое-то кушанье в тарелках. Одна ухватила нечаянно за край, и он отлетел.
Потом лошади стали ходить по всему дому и, воротившись в обеденную залу, точно так же осторожно спустились с лестницы, как взошли. Только одна не выдержала характера: когда осталось всего две-три ступеньки, – прыгнула на двор и при этом вышибла задней ногой из лестницы половицу[149 - Берг Н. В. Графиня Ростопчина в Москве (Отрывок из воспоминаний) // Ростопчина Е. П. Счастливая женщина. Литературные сочинения. М., 1991. С. 400.].
О другой затее графини, уже не столь невинной, рассказывает А. Д. Галахов со слов Н. Ф. Щербины, посещавшего ее литературные вечера: «Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова в кресло»[150 - Галахов А. Д. Записки человека. М., 1999. С. 231.].
Таким образом, «кафтан-святославку» и «шапку-мурмулку» Хомякова есть с чем сопоставить в арсенале графини Ростопчиной.
В своем отношении к Западу оба поэта тоже обнаруживают общие черты, одинаково склоняясь к резкому осуждению догматических новаций Рима. Хомяков не раз высказывался по поводу догмата о «непорочном зачатии» Девы Марии[151 - В одном из писем к И. С. Аксакову он упоминает «безумное мнение, недавно возведенное в догмат папою, о полной безгрешности Божией Матери» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 362).], а графиня Ростопчина этому посвятила стихотворение «С Востока на Запад! По поводу нового Латинского догмата: Dell’ Immaculata Concepzione» (1857):
Рим святотатственной рукою
Евангельских коснулся слов…