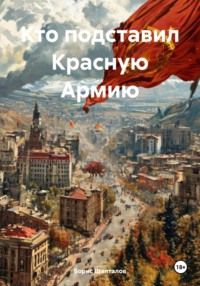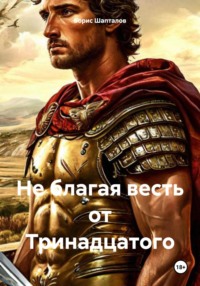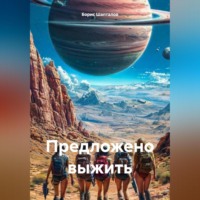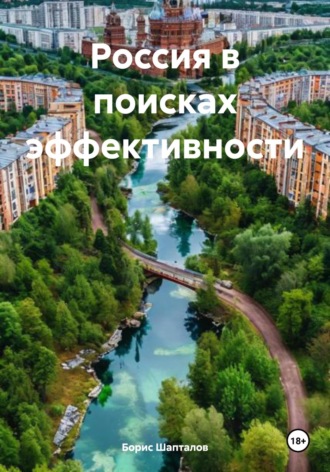
Россия в поисках эффективности
Евразийцы сильны не аргументацией (их критика блестяще изложена в статьях Н. Бердяева. Р. Гуля и других интеллектуалов эмиграции еще в 1920-е годы), а идеологией. Такая идеология является ничем иным, как предчувствием пришествия «нового варварства». А это уже серьезно. Даже в Западной Европе заговорили о такой возможной исторической альтернативе как «новое средневековье». Евразийцы первыми решили выдать возможную беду за добродетель, приспособясь к ней, как это сделал Александр Невский. И указали на носителей «азиатства» – большевиков. Правда те наоборот, стали проводить политику «европеизации» страны через ее индустриализацию, дальнейшего развития европейской модели образования, науки и культуры (пусть и в новой идеологической упаковке). Именно накопленная «европеизация» привела затем к отказу от «азиатского» бюрократического социализма (как и в КНР). Другое дело, что поворот к «Европе» оказался компрадорским, нетворческим, раболепным и, в итоге, опять же по «восточному» отсталым. Оттого появилась «средняя» точка зрения, что Россия – не Запад и не Восток, а место равно притяжения и отталкивания Запада и Востока. Похоже на правду…
Русские как этнос расселись на землях многих народов, и они были нужны пока являлись проводниками западной цивилизации: строили заводы, железные дороги, открывали вузы и научные центры. Когда Советский Союз, не выдержав конкуренции с Западом, распался, то не стали нужны и русские. И они были вынуждены покинуть Среднюю Азию, Закавказье, превратились в изгоев в Прибалтике. И даже «братская» Украина повернулась задом, надеясь на помощь Запада. «Самобытная» Россия никому не нужна (даже себе самой). Та же ситуация понемногу складывается внутри страны среди нерусских народов. Своей «самобытности» хватает. А вот в качестве космической державы и научного кластера – нужна миру. И себе… Попытки же создать «самобытную» культуру и науку, вроде «мичуринской» биологии, потерпели неудачу.
В африканских и арабских странах также были и есть свои адвокаты отсталости, пытающиеся заторможенность развития своих государств выдать за глубину нравственных и духовных качеств народа, которому не нужен европейский рационализм (ибо он заключен в эффективном управлении и высокой материальной культуре, а где это все взять?). Лозунг: «Мы материально бедны, зато духовно богаты» скрашивает неумение овладеть методами науки и промышленного производства. И не важно, что литературно-философские обоснования имеющегося у данного народа «духовной исключительности» сильно расходятся с реальностью. Для идеологов такая «мелочь» никогда не служила препятствием. В Китае и Японии эти течения практически умерли в связи с национальными экономическими успехами. Но там, где внедрение современных норм цивилизации пробуксовывает, там формируется почва для поиска идеологических оправданий досадных провалов.
Сторонники «восточного пути» обычно не конкретизируют свое понимание «особости» национального развития, не раскрывают конкретные черты самодостаточности и ее перспективы в будущем. И не удивительно, ведь это сделать очень затруднительно, хотя бы потому, что нет «Азии» как целостности. Есть арабская культура, индийская, китайская, японская, тибетско-ламаистская… На какую из них может ориентироваться Россия? Татарстан еще понятно: при большом желании – на исламскую. Ну а чисто русские области? Рерихи, например, пропагандировали индийскую культуру, но вряд ли кто из адептов евразийства всерьез будет рекомендовать ее рязанским крестьянам или жителям Ярославля. Ни к индийской, ни к китайской, ни к другой восточным цивилизациям Россия не испытывает никакого тяготения. Россия-Русь со времен Рюриковичей была европейской страной. Ее письменность, архитектура, летоисчисление, религия, живопись, литература, одежда, орудия труда, грамматика языка и т.д. были и есть производные от европейской модели цивилизации. Мы порой сами не замечаем, насколько окружены плодами европейской цивилизации и культуры. Практически все, что вокруг нас, пришло с Запада: вещи, способы общения, отдыха, спорта, образования, медицина… Сами евразийцы-самобытники носят одежду европейского покроя, печатают свои труды в типографиях, оборудованных западной техникой, звонят по телефону, а не посылают гонцов, смотрят телевизор, ездят на поездах и машинах, одним словом, спокойно используют все атрибуты жизни европейской цивилизации. Выйти из рамок европейской цивилизации ныне абсолютно немыслимо. Пусть хоть один любитель «особого пути» попытается предложить сугубо русскую технику для заводов, транспорта, связи… Естественно, ничего не получится. Правда, самобытники предпочитают говорить не о подобных «утилитарных» вещах, а о чем-то неизмеримо глубоком, чем технические новинки – о «национальном сознании» и «национальной культуре» вообще. Но как сделать так, чтобы национальное сознание и культура не менялись, используя при этом западную технику, западные методы управления, образования и пр.? Поэтому на деле конструирование «самобытного общества» фактически сводится к восстановлению общества прошлого, уходящего или ушедшего.
Сами идеологи самобытничества не пишут, чем русская община отличалась от общин других народов? А общины, как способ жизнедеятельности, были распространены повсеместно: и у народов Африки и Америки, у аборигенов Австралии и Новой Зеландии, в Индии и других азиатских странах. Неужели там не было круговой поруки, взаимопомощи, верховенства коллективного над личным? Однако, похоже, не даром «самобытники» игнорируют принцип исторического сравнения, иначе порушилась бы идея самобытности Руси.
Точно также стараются они не отвечать на вопрос: самобытна ли итальянская культура? Французская? Германская? Английская? Явно все это самобытные явления, но тогда почему они объединяются в рамках европейской культуры?
Или такой: чем самобытна русская культура, если огромные ее пласты были заимствованы из Византии, Европы, Орды?
Судя по составным частям русская культура относится к типу синтетических, как и все другие культуры более-менее развитых стран. Подлинно самобытные культуры следует искать в экономических отсталых регионах, вроде Тибета, джунглях Африки и Амазонии, пустынях Сахары и Австралии.
Включенность в европейскую цивилизацию вовсе не означает, что у России не может быть своего национального лица. Его просто не может не быть! Даже у близнецов нет идентичных характеров. При внешнем сходстве они как личности разные! У каждой страны свой путь в мировой истории, и путь Норвегии не похож на путь Италии или Австралии. Но их объединяет общность цивилизационного кода, делающего развитие этих столь разных государств, несмотря на все зигзаги, векторно однонаправленным (ориентированными на прогресс).
Как бы чувствуя свою слабость, самобытники обычно сосредотачиваются на рубежах критики западного влияния, там и залегают. Главный козырь самобытников всех оттенков – национал-коммунистов, религиозных фундаменталистов, просто националистов – критика несовершенств и пороков европейской (она же европейско-американская) цивилизации. Отталкиваясь от реально существующих негативных явлений, делается вывод о необходимости идти принципиально иным, своим, путем. Дальше их единство также распадается. Одни видят свой идеал в обществе сталинского типа, другие – в православной монархии, третьи еще в чем-то… Выбор и здесь немалый, и это ставит очередной вопрос: а что понимать под «самобытностью»? Вероятнее всего, ответов может быть не меньше, чем самих сторонников «самобытного пути».
Спор о «самобытничестве» в трагедийном ключе возникает в странах-неудачниках. В странах, которым не удается конкурировать с западными государствами и их влиянием. Эффект эксплуатации их Западом вызывает ответную реакцию в виде ненависти к эксплуататорам. Реакцию болезненную, часто истеричную. Сам же по себе вопрос меры усвоения чужого опыта, конечно, существует, и достоин самого пристального внимания. Такая проблема возникает в каждом обществе, решившим освоить достижения современной цивилизации. Например, в период «реставрации Мейдзи» в конце ХIХ века, проблема меры стояла перед японским обществом еще острее, чем в России, которая контактировала с Европой на протяжении столетий. «Процесс модернизации шел в Японии настолько быстро, что иногда порождал обманчивое впечатление, будто японцы разрушают свои традиции. На самом деле модернизация осуществлялась не на основе отрицания традиционных структур, а путем их активного использования. Усвоение чужеземного опыта определялось прежде всего политическими целями, и этот процесс шел под контролем правящей элиты» (10. Т.2. С.76). В этой верной оценке успешно проведенном приобщении Японии к европейской цивилизации на наш взгляд следовало бы внести одно уточнение: активное использование традиционных структур сопровождалась, одновременно, их частичной ломкой и наполнением старых форм новым содержанием. Без этого знаменитого рывка, «японского чуда» не получилось бы.
Ныне сторонников «самобытного пути» развития России немного. Собственно о них известно в основном по публикациям в изданиях национал-державного направления. Однако история показывает, что нередко реализуется не естественное направление, уже победившее в целой группе других стран, а некое умонастроение, исповедуемое сравнительно небольшой, но агрессивно настроенной группой. Достаточно вспомнить о большевиках. Но помимо них способность российской правящей элиты уводить свою страну с магистрали на тупиковые, извилистые тропинки просто удивительны, что само по себе стоит изучения такого необычного феномена. Эти «способности» привели в отчаяние П. Чаадаева и исторгли у него гипотезу о России как поле для неких экспериментов Истории. О причинах «самобытной» способности российской правящей элиты регулярно не попадать в ногу со временем речь впереди. Историческая практика как бы подводит нас к мысли, что, несмотря на кажущееся богатство альтернатив, диапазон выбора на деле невелик.
Почему у России, как и у других стран «неевропейского мира», нет реального выбора, кроме активного взаимодействия с Западом? Суть лидерства европейской цивилизации заключается не в том, плоха она или хороша по идеальным критериям. Нет полностью «хороших» цивилизаций и не будет. Историческое лидерство европейской цивилизации определилось тем, что она первая перешагнула рубеж, отделяющий доиндустриальную (сельскохозяйственную и ремесленную) эру жизни человечества от индустриальной. Это произошло в те времена, когда все остальные мировые очаги цивилизации – арабская, индийская, китайская, после вековых успехов на ниве культуры и науки, остановились, выдохлись, прекратив поступательное развитие, застряв в доиндустриальной эре.
Так уж случилось, но европейская цивилизация подхватила эстафету и осуществила принципиальнейший глобальный рывок, получивший название научно-технический прогресс. Эти принципиальные качественные отличия появились в европейской культуре в эпоху Ренессанса и были связаны с возрождением того, чем отличалась античность – с выделением в отдельную сферу интеллектуальной деятельности светской науки и культуры. Кому, например, из представителей великих традиционных цивилизаций приходило в голову организовывать специальные и дорогостоящие экспедиции по изучению растительного и животного мира других стран ради научных целей? А греки со времен Геродота путешествовали, чтобы добыть новые знания и опубликовать их для всеобщего внимания. Аристотель прикомандировал к войску Александра Македонского своих сотрудников, чтобы те составляли коллекции растений и писали отчеты о наблюдаемых нравах местных народов, флоре и фауне. Подавляющую часть народов подобные вещи вообще не интересовали.
Развитие светского рационалистического мышления привело к формированию принципиально иных – нерелигиозных – методов познания мира. Параллельно шло становление комплексных рыночных отношений. Стала формироваться принципиально иная по методам организации и управления экономика. На этой базе было создано демократическое общество с достижениями науки в сотни раз превосходящими вклад всех прочих культур в этой сфере и необычайно высоким уровнем жизни населения, абсолютно недостижимым при традиционных и «самобытных» способах ведения хозяйства.
Как ни парадоксально на первый взгляд, но в отличие от доиндустриальных культур, по-настоящему особой и уникальной является именно западноевропейская цивилизация. У ней нет аналогов в мировой истории по социально-экономической организации. Средневековое китайское общество лишь по культурным формам отличалось от арабского, будучи очень близким по социальным характеристикам. (Это как два автомобиля, например, «Москвич» и «Жигули». Различия большие, а суть одна). Законы жизнедеятельности у них были почти одинаковые, но оба социума, как и им подобные, кардинально отличались от Англии или Голландии. При этом европейская цивилизация имела одну решающую особенность. В отличие от многих доиндустриальных цивилизаций: самодостаточных, непересекающихся, до конца непознаваемых, как считал А. Тойнби, упраздняющих само понятие «прогресс», европейский цивилизационный код может служить матрицей развития для всех народов, независимо от форм местных культур. В этой особенности заключается подлинная всемирность европейской цивилизации.
В раннем средневековье Европа была равна другим развитым культурам, вроде китайской или индийской, а по многим параметрам уступала им. Затем произошло некое социологическое чудо. Западноевропейский путь связан с необычной мутацией в отдельных районах европейского культурно-экономического пространства. На севере Италии, затем в Нидерландах и Англии появилась рыночно-конкурентная экономика. Она с величайшим трудом расширяла свое влияние, затухая в одних районах и разгораясь в других, усваивая предыдущий опыт и потому перескакивала на новый виток зрелости. И тогда впервые в своей истории человечество перешагнуло рубеж, перед которым останавливались цивилизации и культуры всего мира – рубеж между цивилизацией, основанной на мускульной силе животных и человека, и машинной цивилизацией. Цивилизации, основанные на труде рабов, лошадей, энергии ветра, сменила цивилизация паровых машин, двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, атомных реакторов… Без технической революции и колоссального взлета производительности труда, без создания индустрии массового поточного производства остались бы в теории все гуманистические призывы и книжные разработки по демократии и социальному равенству. Если бы не рывок некоторых народов Западной Европы, человечество до сих пор ездило бы на повозках, запряженных животными. И если бы не новые социальные формы жизни, выработанные в лоне европейской политической культуры, человечество до сих пор не знало иного контроля над людьми и ресурсами кроме тоталитарной власти.
Так есть ли альтернатива такому обществу и такой цивилизации? Она появилась бы, если бы кому-нибудь и где-нибудь удалось создать нечто передовое, чего не в состоянии сделать цивилизация европейского типа. Чтобы всерьез сделать заявку на «самобытность» без тени ретроградности, необходимо совершить подобный рывок и открыть перспективы, которые не может дать европейская цивилизация. Но это вряд ли осуществимо. Прогресс европейской цивилизации (а через нее и остального мира) основан на открытии законов функционирования природы, общества, человека и их использования на практике. А эти законы единичны. Нет другого закона всемирного тяготения, нет других радиоволн, а потому невозможно сконструировать какой-то особый «мусульманский», «православный» или «конфуцианский» самолет, радиоприемник, телевизор или автомобиль. Невозможно переоткрыть электричество, атомную энергию, пенициллин, закон спроса и предложения, перспективу в живописи, квантовую механику, компьютер и книгопечатание. То есть невозможно переоткрыть на каких-то принципиально иных началах всю совокупность нынешних знаний, на которых стоит современная жизнь. Отказаться от них можно, и жить бедно и самодостаточно. В этом, как правило, и заключается суть призывов к «самобытному пути» (мол, бедность не порок, счастье – не в деньгах и пр.). Только попытки обрести искомое счастье в робинзонаде никому успеха и счастья еще не принесло. Ну разве что монахам, но попытки загнать человечество в монастырь делались, но оборачивались для народов трагически. Поэтому бессмысленно рассуждать о том, хорошо или плохо, что именно европейская цивилизация стала общемировой. Кому-то надо было проделать гигантскую работу познания законов природы и общества и приспособить их к нуждам человечества. Это сделали европейцы (позже заканчивая вместе с североамериканцами), они и «сорвали банк». Сожалеть по этому поводу бессмысленно. Именно Европа и США поставили мир перед выбором дальнейшего пути: жить по старинке, на базе ценностей доиндустриального мира, и в силу этого безнадежно отставать от других, или менять социальный генотип.
Лишь коммунистические идеологи имели основания утверждать, что в СССР складывается новая цивилизация, потому что помимо особой культуры и особого образа жизни в СССР практиковались особые методы управления всеми сторонами жизни общества, и на этом пути новому обществу удалось достигнуть определенных успехов. Но собственной оригинальности не хватило, и, когда власть попыталась использовать методы, присущие европейскому типу цивилизации, то «советская цивилизация» незамедлительно рухнула. Поэтому желающие строить особую цивилизацию должны изобрести и особые методы управления, адекватные своей самобытной культуре, однако не менее эффективные, чем выработанные на Западе. Такие попытки делались (в социалистических государствах) и делаются, в частности, в некоторых исламских странах. Но об успехах на этом поприще говорить не приходится за неимением таковых.
Суть цивилизационного кода, впервые открытого в Древней Греции и задействованного на новом историческом витке в средневековой Западной Европе, заключается в триединстве таких составляющих социума, как а) рыночная экономика, б) политическая демократия и в) производительная сила науки.
Рыночная экономика европейского типа включает в себя такие обязательные компоненты, как наличие экономической и социальной конкуренции (состязательность, доведенная до естественного отбора подобно в природе); свободу предпринимательства для всех членов общества безотносительно их социального происхождения; появление и постепенное доминирование экономической экспансии среди всех других видов экспансии на мировой арене.
Политическая демократия есть система жизнедеятельности в социуме на основе правового регулирования общественных отношений. Она включает в себя разделение полномочий властей, чтобы не допустить сосредоточения в одних руках абсолютной (неконтролируемой) власти, что в традиционных обществах является «само собой разумеющимся» фактом; реальная выборность органов власти; свободу политической, культурной и религиозной деятельности, не входящей в противоречие с Законом.
Использование науки в качестве производительной силы общества означает, что наука из любительского занятия отдельных индивидуумов становится основой экономической и социальной деятельности, без которой невозможно нормальное развитие общества. Отсюда огромная роль образования для общества, как инструмента поиска и развития соответствующих талантов и подготовка остальных к адекватной жизни в индустриальном мире.
Все остальное, что присуще европейской культуре – покрой одежды, способы приготовления пищи, развлечения и т.п. не являются обязательными компонентами при заимствовании цивилизационного кода, хотя зачастую переносятся вместе кодом для лучшего восприятия европейской модели развития (как это сделал Петр I, сбривая бороды и меняя стиль одежды).
Казалось бы, все это известные вещи. И ладно если бы их пытались игнорировать, увлеченные своим стародавним предметом историки или умозрительными схемами публицисты. Хуже, когда теорию «особого пути» пытаются пропагандировать экономисты и управленцы, отчаявшиеся найти способы и возможности догнать и перегнать эту самую треклятую «европу». В отличие от книжных историко-философских построений, экономика и управление вещи конкретные и непосредственно связанные с благополучием страны. Исторический опыт Нового и Новейшего времени показывает, что нельзя развиваться только на основе специфического для данного народа образа жизни, самобытной философии жизни и привычного векового экономического уклада. Цивилизация обязательно строится еще на таком компоненте, как методы управления и организации производства. Система управления сильно влияет на уровень зрелости и развитости страны. Если в наше время некие афро-азиатские народы захотят сохранить свою «особость», то помимо одежды, ритуалов, песен и пр. они должны будут сохранить вековые методы управления своим сообществом и производством со всеми вытекающими для себя последствиями.
Противопоставление «европейства» и «азиатчины» не означает, что последнее качество присуще лишь обществам восточнее реки Буг. Распространенный в марксистской литературе термин «азиатский способ производства» есть метафорическое обозначение обществ с квазирыночной и антидемократической парадигмой жизнедеятельности. В их перечень входят не только китайский социум, но и майя, ацтеки, древние египтяне.
В сущности, первобытное общество эволюционировало не в рабовладельческое, как считали Маркс и Энгельс, а в «азиатский способ производства» и демократию (античный полис).
«Азиатский способ производства» стал ведущим в истории человечества на протяжении тысячелетий, тогда как демократия заявила о себе лишь на берегах Средиземного моря, да и то исторический век ее был относительно недолог. «Азиатский способ производства» царил в Африке ( Египет фараонов), Америке (государства инков, ацтеков), но более подходящего названия ему так и не нашли. По сути это государственно-общинная формация. Фундаментом служила сельская родовая или территориальная община, а «надстройкой» государство авторитарно-тоталитарного типа.
К основным признакам этой модели относятся внеэкономическое принуждение к труду и неэкономическое изъятие части прибавочного продукта (редистрибуция); властвование в форме деспотизма; жесткие рамки духовной культуры; малоценность личности, преобладание «коллективизма» над индивидуализмом.
Черты «азиатства» легко найти в истории большинства европейских народов. Хватало в Западной Европе и деспотизма, и рабства, и много чего другого негативного. Сама Европа прошла длительный, многовековой путь «европеизации», изобилующий драматическими зигзагами. Для некоторых стран борьба за полное освоение европейской системы цивилизации закончилась лишь во второй половине ХХ века (Португалия, Испания, страны Балканского полуострова…). К «азиатству» вполне можно отнести и такие зигзаги как фашизм и нацизм с их апологией тоталитаризма. Так что даже в коренной «Европе» европейство утверждалось веками и в ходе тяжелой борьбы. Это означает, что проблемы самоидентификации России, ее самопознания, история усвоения ею европейского цивилизационного кода отнюдь не является лишь нашей головной болью. Это общемировая проблема, с которой сталкивались и будут сталкиваться десятки других государств планеты. Другое дело, что Россия своими размерами всегда «выпирает» из общего ряда, оказывая влияние и на соседей.
Европейские нормы цивилизации в той или иной степени давно уже усвоились подавляющем числом стран по той простой причине, что это открывает дорогу к прогрессу. Исторический опыт показывает, что путь вопреки европейской модели цивилизации ничего, кроме обскурантизма и консервации отсталости, не дает. Поэтому все «самобытные» культуры вынуждены перенимать европейский цивилизационный опыт, пусть даже под аккомпанемент проклятий в их адрес. Однако эта констатация не на йоту не облегчает путь того или иного общества в освоении европейского цивилизационного кода. Свидетельство тому вся история России и множество других государств (Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и той же Европы).
Было бы, конечно, легко поделить всех спорщиков по поводу путей эволюции страны на ретроградов и прогрессистов, как это и было в советские времена, и беспроблемно делать однозначные выводы. Однако все много сложнее. «Азиатские» общества не продержались бы на протяжении многих тысячелетий, если бы не имели каких-то явных преимуществ. Ведь не случайно античные демократии погибли все до единой (греческая, римская, финикийская), а восточные общества продолжали существовать. Преимущество «азии» заключено в его социальной устойчивости. Для этого типа обществ экспансия, как механизм самоподдерживания, в отличие от демократического типа общества, необязательна. «Азия» функционирует через жесткую систему патерналистко-патриархальных отношений. Вековой отбор элементов такой системы (культ семьи, старшинство в семье, роду, государстве, строгая мораль, освящаемая традициями трудовая этика) позволил создать механизмы, блокирующие тенденции разложения общества. Поэтому, в таком социуме могут гибнуть правители, даже государства, но крайне редко само общество. В европейском же типе цивилизации демократия убирает многое из механизмов самоочищения, как несоответствующее принципам свободы и философии индивидуализма. И европейское общество становится уязвимым перед вирусами морального разложения. Такая дилемма – приобретение эффективности в обмен на морально-нравственные и социальные издержки – стимулирует спор о целесообразности выбора пути между двумя типами эволюции. В частности, критики западного типа цивилизации правы, что культ потребления не может быть конечным смыслом существования человека и общества; что безудержное потребление может закончиться экологической катастрофой. Конечно, умеренный уровень жизни есть благо. Но попытка жить в мире дихотомии: либо полное признание всех ценностей Запада или, наоборот, их полное отрицание, малопродуктивно. Логичней, сохраняя свои явные культурные достижения, пропускать через их, как фильтры, западные ценностные установки. Другое дело, что процесс уяснения меры заимствования и поддержание продуктивного, эффективного для жизнедеятельности данного общества баланса – самое трудное. Намного труднее, чем голое отрицание и призыв к автаркии или, наоборот, капитуляция перед пришлыми нормами. Но всем здоровым обществам и возглавляющих их элитам приходится решать именно задачу «золотого сечения» – меры и баланса своего и чужого. Такой меры никогда не уяснить и не достигнуть, исповедуя ксенофобию или занимая позиции пассивного невмешательства по принципу «авось само все утрясется». Проблема может продуктивно решаться на путях диалектического заимствования-противоборства с последующей экспансией своих, в том числе и обновленных путем синтеза культурных ценностей в стан «друга-неприятеля». Только так, как показывает мировая практика, создаются сильные культуры (опыт буддийской Индии, древнего Рима, средневековых арабов, христианства, американизма ХХ века и др.). Россия оказалась на границе между тягой к автаркии и способностью к мощной культурной экспансии. Эта раздвоенность, порожденная ее цивилизационным генотипом, стала ее культурно-философской драмой на целые века, включая наше время.