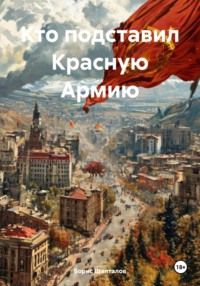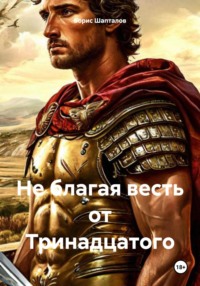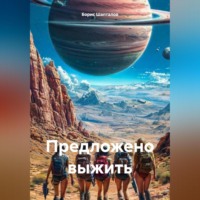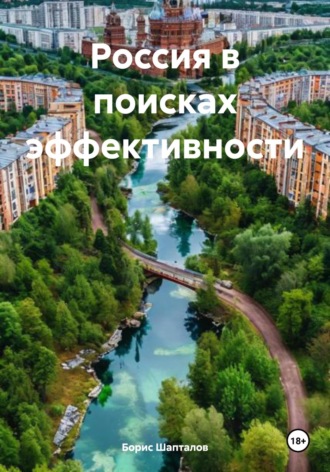
Россия в поисках эффективности
Используя свои превосходные военные качества, варяги подчинили своей власти все другие восточнославянские племена. Столица нового государства была перенесена из Новгорода в географически «срединный» Киев. Там была основана варяжско-славянская династия Рюриковичей, процарствовавшая до конца ХVI века. С момента овладения Киевом в 882 году начался отсчет времени государства, названного позже Киевской Русью (хотя, может, справедливее было бы назвать его Киевско-Новгородской Русью, памятуя заслугу новгородцев).
Есть весомое мнение, что под варягами не следует понимать одних скандинавов. Некоторые исследователи считают, что варяги произошли от слова «варяжить» – торговать; то были военно-торговые дружины, пробивавшиеся с купеческими караванами (и их охранявшие) в Византию и обратно. Поэтому состав этих дружин был этнически пестрым. В качестве аналогии можно вспомнить такие военно-торговые частные компании как Ост-Индская и ряд других, которые имели свой флот, вооруженные силы и захватывали обширные колонии. Варягов еще можно сравнить с нашими средневековыми казаками. Те же военные ватаги, живущие не сельским хозяйством и ремеслами, а военно-торговым промыслом. И казаки, при определенных условиях, тоже могли стать «дрожжами» в образовании государства. Так, казачий предводитель Ермак с дружиной мог в принципе основать свое государство в Сибири. Кстати, эту роль попытался выполнить его противник хан Кучум, тоже пришелец. Но история Сибири пошла другим путем – она была включена в состав России, как более сильной стороны.
Возникновение Киевской Руси явилось классическим образцом положительного влияния внешней силы на ускорение внутренних процессов. В мировой истории фактов подобного рода предостаточно. Вряд ли Индия ныне представляла бы из себя единое государство не объедини ее англичане в ХVIII веке. Слишком велики языковые различия между народами Индостана. Отделились лишь Пакистан и Бангладеш, имеющие антагонистическую по отношению к культуре индусов религиозную (исламскую) систему. Внешняя сила в лице европейских колонизаторов стояла у истоков практически всех современных государств в Африке, столь же раздробленных на племена, как некогда территория, вошедшая в историю под названием «Русь». Внешняя сила в лице Наполеона I облегчила процесс образования единой Германии, – он свел 300 германских карликовых государств в 38. Наполеон III, нанеся поражение Австрии в войне 1858 г., способствовал возвышению Пьемонтского королевства и объединению Италии.
Приведенные факты лежат на поверхности. На самом деле влияние привнесенной энергии в жизни стран и народов значительно многообразней. Например, только немногие государства в современную эпоху обходятся без привлечения такой внешней силы как иностранные инвестиции. Они позволяют куда быстрее решать вопросы развития местной экономики. Используются такие методы привлечения внешней силы, как размещение иностранных войск на своей территории (страны НАТО, Ю. Корея). Принятие религии «со стороны» с соответствующим ей культурным арсеналом также есть фактор использования внешней – только духовно-идеологической – силы. Не избежала этого и Русь, что, однако, почему-то не задевает. Наоборот, факт принятия «палестинско-византийской» религии приветствуется.
Отсюда несложная мораль: внешняя сила далеко не всегда есть зло, а нередко есть добро, даже если вначале выглядит не очень привлекательно. К сожалению, потенциал внешней силы часто можно оценить только спустя значительное время, когда процесс дойдет до своего логического завершения. В этом вся сложность выбора альтернатив. Другая сложность заключается в том, что всегда есть социальные группы с отличными и прямо противоположными интересами. Потому выбор альтернативы означает начало борьбы между заинтересованными группами, маскирующими свои интересы завесой прекраснословных лозунгов – сохранением обычаев и традиций предков, например, или борьбой за независимость. Современное обыденное сознание воспринимает Древнюю Русь как данность. На деле же она была построена на базе лишения независимости более дюжины племен (народностей) со своей племенной культурой, властвующей элитой, религией, языковым диалектом. Все это затем уничтожалось, унифицировалось. Естественно, что в среде этих племен находились группы людей недовольных изменившейся ситуацией. И они боролись, подбивая своих соплеменников на восстания. Летописи донесли нам некоторые из них. Мятеж Вадима в Новгороде в IХ веке, бунт древлян в Х в., движение волхвов в ХI, сепаратистские восстания отдельных племен… Это то, что сохранилось в скупых строках уцелевших летописей. О подлинном размахе борьбы в период складывания древнерусского государства можно только гадать. Но кому ныне дело до стонов проигравших? Дело сделано, и патриоты гордятся могучей Новгородско-Киевской Русью. Гордится и впрямь есть чем.
Славяне Восточной Европы, конечно сами того не осознавая, использовали внешнюю силу вовремя, т.е. эффективно, до образования государств на базе местных племен. Задержка с призванием привела бы к тому, что объединители столкнулись бы со всем набором подлинных государств – с армиями, крепостями, национальным сепаратистским самосознанием и тогда шансы на создание единого государства стали бы сомнительны.
Формирование Руси как государства началось с того, что варяжский предводитель Хельг (Олег) во главе смешанной скандинавско-славянской дружины в 882 г. захватил славянское протогосударство полян с центром в Киеве. Затем подчинил себе племена древлян (883 г.), северян (884 г.), радимичей (885 г.) В Х веке его преемники подчинили племена уличей и тиверцев (район Днестра), вятичей… Само формирование этого государства не было гладким. Время от времени отдельные племена восставали, стремясь вернуть свою независимость (например, радимичи и северяне в 940-е гг.; их пришлось покорять повторно). Объединение мечом и кровью продолжалось более ста лет. И вначале это объединение вряд ли воспринималось варягами как целенаправленный процесс по созданию государства. Они пришли на новые земли как завоеватели и вели себя соответственно, то есть занимались грабежами, не уверенные что задержатся в этих местах надолго. Процесс огосударствления пришельцев растянулся на десятилетия. Так, внук Олега (Хельга) и сын Игоря (Ингвара) Святослав, хотя и носил уже чисто славянское имя, все же попытался основать новое государство на берегах Дуная и даже заложил ее столицу – Переславец. Лишь поражение от византийских войск заставило его повернуть назад, в Киев. Только после этого всем оставшимся в живых участникам похода (сам Святослав погиб на обратном пути) стало ясно – их Отечество на Днепре. Во всяком случае, последующие князья являли собой сугубо национальными правителями. Следы пришлости исчезают окончательно.
Государство, получившие название «Русь», подобно славянским протогосударствам доваряжского периода, вначале было достаточно рыхлым образованием. Оно представляло собой полиэтнический конгломерат, сколоченный военной силой. Таких объединений История знала уже много. Большинство из них с течением времени рассыпались. В этот исторический период, в IХ веке, распалась империя Карла Великого в Западной Европе, в Х в. – хазарский каганат и т.д. Такая же судьба вполне могла ожидать и варяжско-славянское государство. Однако этого не произошло. Новому государству требовалась система, объединяющая всех жителей страны, независимо от племенной принадлежности и социального положения помимо голой силы. Требовалось то, что ныне называется «национальной идеей». Материя неуловимая, идеальная, однако эффективная по воздействию на сознание людей. Важнейшим скрепляющим элементом стала культура и такая ее часть, как новая религиозная идеология. Идеология в те времена могла выступать, прежде всего, в виде религиозного учения. Князь Владимир попытался создать общегосударственную религиозную доктрину на базе местных богов, но не заладилось. В этой ситуации верхи вновь прибегают к испытанному средству – заимствованию силы, теперь идеологической, извне. А заимствовать было у кого. Невдалеке располагалась Византийская империя с ее огромным культурным богатством. Она и сыграла ведущую культурно-идеологическую роль в европеизации Руси и формировании на ее просторах единого народа.
Из Константинополя пришла новая государственная религия – христианство, а с ней письменность, архитектура, живопись, летописание, многие виды ремесел. В 988 году великий князь Владимир крестился и обязался обратить в новую веру всех своих подданных.
В чем ее значение?
Общность языка и даже территории отнюдь не является причиной для объединения родственных племен. Примеры жизни однотипных племен Африки или хорватов и сербов на Балканах тому доказательство. Зато можно привести немало примеров образования наций на основе смешения и слияния неродственных племен и народностей (например, Великобритания, Испания, послеримская Италия). Скрепляющим каркасом служила духовно-идеологическая культурная система в религиозной «упаковке», придающая этой системе сакральный, т.е. освещенный абсолютным авторитетом, характер. Без такой системы любой этнический конгломерат обречен на скорый распад. Конечно, и в рамках единой культуры нередко удержать народы вместе бывает невозможно и опять же примеров тому предостаточно. Но лишь общность культурной системы дает шанс на получение устойчивого государственного образования. Варяжско-славянская элита новообразованного государства это почувствовала и сделала единственно правильный выбор – присоединилась к европейской цивилизации. Впрочем, почему «единственно правильный»?
Стоит обратить внимание на скрытую сторону этого выбора. Ведь была другая альтернатива, мимо которой обычно проходят историки. Князь Владимир привлек внешнюю силу, но тем самым он отказался от самобытного пути развития Руси! А для Руси-России, как и для многих других государств, это одна из постоянных дискуссионных проблем. Рассматривая историю России, к ней придется обращаться постоянно.
Говоря современным языком, верховный правитель Руси князь Владимир мог избрать путь самобытного развития, строя особую древнерусскую цивилизацию, наподобие того, что сделали китайцы или индийцы. Предпосылки к такому повороту событий были. Во-первых, существовала самобытная вековая религия предков. Во-вторых, была своя протописьменность – «резы», о чем сообщали иностранные хроники. В-третьих, развивалась самостоятельная материальная культура, на базе которой уже около ста лет существовало обширное государство и национальная экономика. Местная культура была достаточно развитой и весьма колоритной. О ней можно судить по таким оставшимся мелким осколкам как праздники Ивана Купалы и масленицы, колядование, ритуальным хороводам, скоморошничеству, по дошедшим сказкам, девичьим гаданиям, по богатейшему мифологическому миру с домовыми, лешими, бабами-ягами, кикиморами, а также существами с поэтическими именами Лель, Купава, Лада, Пращур, Ярила… Строить самобытную цивилизацию как будто было на чем. И вдруг «призвание христианства» с полным отрицанием уже имевшегося!
Владимир поначалу пошел именно по «самобытному» пути. Он выбрал государственную религию, «назначив» главным богом в государстве Перуна. В пантеон к нему были определены ряд других известных и почитаемых в народе богов, вроде Даждьбога, Хорса, Мокша – всего шесть богов. И вдруг резкий уход от выбранного пути: принятие чужого, ничем не связанного с местными условиями (где Палестина, а где Русь) христианства! Государством принималась не просто новая религиозная догматика. Требовалось совершить революцию в умах, подобной которой славяне никогда не знали. Славянские боги были привычны племенам Руси в силу вековой традиции. И вдруг людям объявляют, что есть другой, настоящий бог, по имени Иисус, который проповедовал в какой-то совершенно неведомой Галилее, среди какого-то израильского народа и какие-то неведомые римляне вместе с местными жрецами его убили, после чего он вознесся на небо и т. д. Причем здесь они, поляне, радимичи, дулебы и тиверцы? Чуждым было все – имена чужеземных святых, обряды, философская доктрина, страны и народы, о которых шла речь в Писании. Когда патриарх Никон в ХVII веке лишь видоизменил некоторые церковные обряды, то произошел раскол в обществе, о котором с содроганием писали многие историки, усматривая в нем источник немалых последующих бед. А тут коренная перестройка миросозерцания! Мало того, что приходит новая религия, с ней входит новый тип культуры, начиная с новой письменности (кириллицы), и так вплоть до новых праздников, обрядов похорон, свадеб с обязательной отменой старых ритуалов. Ничего подобного по масштабам слома привычного, сложившегося, страна не знала. И ведь все это происходило во времена, когда отсутствовали средства массовой информации с их «разъяснительной работой». При Никоне эту роль могли выполнять священники, объясняя с амвонов суть и необходимость перемен. Во времена князя Владимира основным средством передачи сообщения и, наверное, заодно и толкователями были гонцы. Требовалось много времени, чтобы подготовить священнослужителей, способных охватить своей миссионерской деятельностью бескрайнюю страну. Спасло, по-видимому, то обстоятельство, что распространение христианства растянулось на многие десятилетия, и даже века, и это помогло избежать раскола и междоусобицы. Сопротивление же подавлялось по мере неспешного продвижения новой религии, и потому оно не выплеснулось в гражданскую войну, как это позже произошло между католиками и протестантами.
Почему князь Владимир отказался от самобытного пути в пользу «зависимого», коспополитичного? Зачем пошел на духовный вассалитет от Византии, которая получила право контроля над государственной идеологией, посылая на Русь руководителей церкви? Ведь Китай, Индия, Япония смогли развиваться по самобытному духовно-религиозному пути. Наверное, и тогда на Руси были патриоты-почвенники, изобличавшие в терминах своего времени «культурный империализм» надменной сверхдержавы. Исторические ситуации меняются, эмоциональная реакция повторяется. Наверняка были приверженцы модернизации, свои «западники» и непримиримые «славянофилы», не понимавшие причин, по которым требовалось отказаться от духовного наследия предков.
Версий о причинах, побудивших Владимира повернуть руль государственного корабля в сторону принципиального иного типа культуры и цивилизации много. От «божьего вразумления» до желания упрочить авторитет княжеской власти иными духовными ценностями («всякая власть от Бога»). Остается непреложным фактом лишь одно обстоятельство, а именно: все европейские народы в принципе могли пойти своим культурным путем, как это сделали народы Индии и Китая, причем Япония и Китай полностью обошлись в своей государственной истории от помощи мировых религий. А Индия сотворила их (индуизм и буддизм) сама. Однако европейские народы отказались от возможности независимого пути и признали духовную и частично светскую власть извне в лице папы римского или константинопольского патриарха. (Можно лишь отметить, что христианство правители принимали без Нагорной проповеди, ибо ее моральные постулаты противоречили идее государственной власти). Закономерность удивительная! Главной причиной, наверное, была притягательность более мощной антично-христианской культуры. В качестве аналогии можно вспомнить, какую неодолимую силу культурного притяжения испытали на себе советские люди, внимая запретным плодам западной культуры, и Власть в конечном счете капитулировала перед этим напором.
Кроме того, за этой притягательностью крылась такая прагматическая вещь, как экономия времени. Чтобы развить полноценную цивилизацию требовались века. В антично-византийско-христианской культуре такая работа была уже проделана. Экономия времени в обретении силы, возможно, главное в притягательности заимствований.
Итак, Князь Владимир поступил так же, как и другие европейские правители – в поисках идеологической эффективности принял христианство и новую культурную парадигму. Принятие христианства сохраняло Русь в культурном пространстве европейской феодальной цивилизации и дало ей, как и другим «варварским» народам Европы, возможность существенно сократить исторические сроки освоения уже накопленного со времен античности цивилизационного наследия. Историческая правота оказалась за князем Владимиром. Модернизация помогла возвыситься до уровня великого государства. Именно при князе Владимире (980-1015) русское государство закончило свое формирование и могло с полным правом претендовать на звание великой державы. Надо отметить, что власть на Руси действовала синхронно с действиями западноевропейской властвующей элиты. Это не только выбор религии, но и принципы организации государственного управления, социальные порядки, подход к кодификации правовых норм («Русская правда» сходна с «Саллической правдой» франков). Делалось все это не специально, все шло естественным путем. Русь жила ритмами европейского мировосприятия, что вполне естественно, ведь варяги были европейцами.
В ХI веке Русь предстает взору историка как сложившиеся, и можно сказать, «обычное» европейское феодальное государство с тесными связями с Европой на всех уровнях. Великий князь Ярослав (1019-1054) выдает своих дочерей за европейских принцев: Анну за наследника французского престола, и она становится королевой Франции, Елизавета – королевой Норвегии, а затем Дании; сын Всеволод женился на византийской принцессе; сестра князя вышла замуж за польского короля; внучка – за германского императора. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля.
Но религиозный раскол между римской и константинопольской церквями, поделивший христиан на католиков и православных, вскоре стал осложнять взаимоотношения Руси с Европой. Постепенно возникли антагонистические культурные и мировоззренческие различия, способствующие отдалению Руси от Европы, породившие массу искусственных проблем в духовной жизни страны, которые сказываются до сих пор.
Но это произошло много позже. Нам же остается констатировать: древняя Русь с приходом варягов стала жить в рамках единой европейской цивилизации и развиваться по ее внутренним законам. Она постепенно набиралась сил, осваивая обширные пространства между Бугом и Волгой. И можно было ожидать, что в недалеком историческом будущем русская колонизация захлестнет волжский бассейн. Этому явно способствовало появление такого сильного княжества, как Владимирско-Суздальская земля. То, что для Киева представлялось далекой окраиной, для тамошних князей являлось предметом насущных забот и интересов. Уже было освоено верховье Волги и жили полнокровной жизнью такие опорные пункты, как Нижний Новгород и Городец. Однако этой положительной тенденции противодействовала сильная контртенденция в виде феодального дробления княжеств и нарастания межкняжеских распрей. Но те же процессы шли и в Европе, поэтому в историческом плане феодальное дробление не перекрывало общую тенденцию к складыванию огромного по размерам и мощного по возможностям государства Восточной Европы.
Все изменилось «в одно мгновение»…
2. Ордынский вариант: формирование «азиатской» судьбы России
Общеизвестно, что удар монгол прервал естественное течение государственного развития Руси. Как при столкновении двух летящих физических тел, одно отскакивает и теряет скорость, другое – изменяет направление движения, так Русь столкнулась с монголами с такой силой, что нападавшие потеряли скорость и замерли, а Русь «вильнула» в сторону от своего магистрального пути развития. Но какова природа этого зигзага – спорят до сих пор.
Степняки, ворвавшиеся в Восточную Европу в 1237-1242 гг., разорили большинство городов и «прошерстили» правящий класс Руси. Последнее обстоятельство, пожалуй, имело более тяжелые последствия для исторической судьбы государства, чем временное разорение нескольких десятков больших и малых городов, потому что были выбиты люди свободолюбивые – те, кто вступил в схватку. Им на смену заступили управленцы иного склада души и характера. Произошло «охлопление» элиты. Ехать в Орду требовалось от всех князей. Там они проходили «естественный» отбор: те, у кого спина плохо гнулась, погибали. В 1318 году был убит тверской князь Михаил. В 1326 году – князь Дмитрий Тверской и Александр Новосильский. В 1327 году рязанский князь Иван. В 1330 году – Федор Стародубский. И так далее. Зато московские князья преуспели. Они и стали доминировать на Руси.
Нанеся поражение княжествам, кочевники отошли в привычные им степи, простиравшиеся от Прута до Волги, и основали свое государство «улус Джучи» (название Золотая Орда появилась в ХVI веке). Новое государство прекратило свое движение и развитие, не начавшись. Лишь в отдельных центрах – в городах Крыма, в столице Сарае и некоторых других поселениях городского типа, в скромных размерах развивалась культура: ремесла, письменность. Но ни науки, ни светского образования, ни архитектуры, ни литературы не возникло. Да и то, что появилось, было в основном заемным, созданным руками и талантами согнанных рабов. В улусе Джучи (Золотой Орде) не велось даже летописания. О ее внутренней жизни историки судят по сообщениям иностранных авторов, в том числе по русским летописям. От Орды не осталось монументальных памятников (дворцов, храмов), столь обычных для великих государств. Неизвестно даже месторасположение ее столицы. Получается, Орда была государством, которое не интересовалось ни историей прошлого, ни заботой о своей памяти у потомков. Забота о прошлом и о вечном – краеугольные камни здорового общества. Русь, имевшая эти опоры, выжила и возродилась, Орда – сгинула, растворившись, подобно миражу, во времени. Кочевая культура оказалась тупиковой ветвью цивилизации. Государства, созданные на этой основе, сошли с мировой сцены уже в Средневековье и больше никогда не возрождались. Если бы не завоевания и разрушения, если б не политическое доминирование на протяжении определенного времени, которое было зафиксировано в письменных памятниках оседлых народов, то мы бы сейчас ничего толком не знали о государствах кочевников.
Развитое государство не может жить в замкнутом пространстве, без взаимодействия с другими политико-экономическими объединениями, с которыми она производила бы духовно-цивилизационный обмен. У Руси до монгол таким социумом была Византия и (в меньшей степени) остальная Европа. Взаимодействие со Степью, с половцами, с которыми многие князья вступали в союзнические отношения и даже роднились, носило сугубо политико-военный характер. Кочевники не могли дать ничего серьезного в культурно-цивилизационном плане – слишком различны были экономические уклады. Монгольское нашествие внесло в эту ясную цивилизационную ситуацию коренную перемену. Руси, зажатой между католической Европой (Византия в 1204 г. была захвачена крестоносцами) и языческо-мусульманским Востоком, предстояло сделать исторический выбор: на кого опереться теперь? Казалось бы, выбирать все равно не из чего. Что реального могла дать Орда в культурном и экономическом плане? Ничего. Однако ситуация выбора привела к расколу, ибо была третья составляющая силы – военно-политическая. В тот период решающим фактором была сила меча. Меч определял, кому где властвовать и властвовать ли вообще.
В среде правящего класса сформировалось два течения. Одни князья привычно выбрали в качестве ориентира Европу. Другие – Восток в лице империи Чингизидов. Последнее обстоятельство, казалось, должно осложняться тем, что Орда выступала в качестве победителя Руси. Однако монголы не являлись завоевателями в чистом виде. Русь ими не оккупировалась. Кочевники сделали то же, что и предыдущие волны печенегов и половцев – несмотря на свои победы остались в степях. С половцами постепенно сложился своеобразный политико-экономический симбиоз оседлой Руси и кочевой Степи. Обе стороны воевали друг с другом, но и торговали, а князья и дружинники даже вступали в брачные союзы. Часть князей киевского периода Руси активно сотрудничала с кочевниками, используя дружины своих родственников и союзников для борьбы с другими княжествами. Отряды половцев десятки раз наводились на города и веси Руси. Их услуги оплачивались разрешением грабить земли князей-соперников. Так что психологическая основа для активного сотрудничества с новоприбывшими кочевниками была налицо. Качественная разница киевского периода сожительства со Степью состояла в том, что тогда Русь выступала по отношению к кочевникам как минимум равная по военному потенциалу сила. Половцы или другие кочевые племена никогда не наносили столь тяжких ран, как монголы. И самое главное, отношения со степняками никоим образом не сказывались на цивилизационной ориентации Руси. Русь продолжала быть составной частью римско-византийской цивилизации Европы. И вдруг для части политической элиты Руси Европа (впервые!) становится главным врагом страны, а Степь единственным союзником! То был переворот не меньший по политическим масштабам, чем разрыв, например, большевиков со «старым миром».
Смена ориентации проходила в жесткой и кровавой борьбе. Во главе «восточной ориентации» встал такой авторитетный и заслуженный политик, как князь Александр Невский. Он не только отказался от мысли бороться с ордынцами, но и постарался войти с ними в тесный союз, признав вассальную зависимость Руси от Орды. Это дало право называть его первым антизападником, хотя в те времена «Запада» в позднем его значении не было.