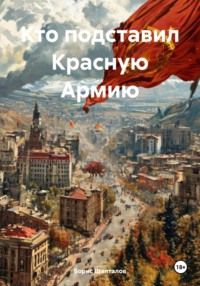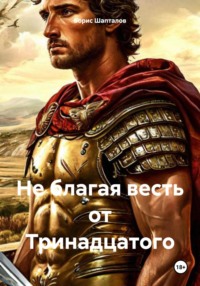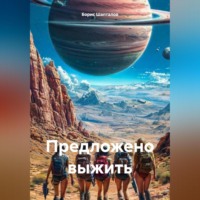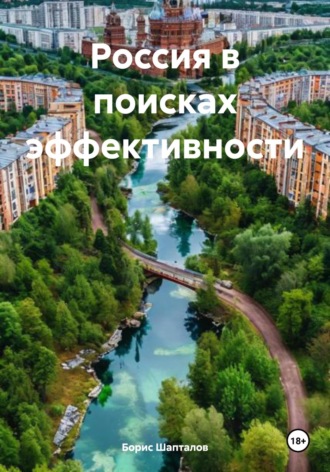
Россия в поисках эффективности
Иван Грозный дал толчок еще одной тенденции, ставшей проклятьем страны и в немалой степени поспособствовавший гибели царизма. Разорение крестьянства, падение объемов податей и доходов землевладельцев вынудили власти искать решение проблемы на путях перехода к крепостному праву, запрещая крестьянам покидать свои наделы и своих патронов. Процесс закончился разрешением помещикам торговать крестьянами как рабами.
Можно вполне обосновано утверждать, что подлинный, хотя и не бросающийся в глаза раскол общества на носителей европейских ценностей и носителей норм восточной деспотии произошел не при Петре I, а в правление Ивана IV. «Западники» по духу, в лице группировки Адашева-Сильвестра, потерпели полное поражение.
Актер Н.К. Черкасов, игравший Ивана Грозного в фильме С. Эйзенштейна, был приглашен вместе с режиссером на беседу со Сталиным. Черкасов вспоминал: «Говоря о государственной деятельности Грозного, товарищ И.В. Сталин заметил, что Иван IV был великим и мудрым правителем, который ограждал страну от проникновения иностранного влияния и стремился объединить Россию» (6. С.379). Если учесть, что объединение России произошло при Иване III и Василии III, то получается, что Сталин в «остатке» увидел величие Ивана IV прежде всего в борьбе с «иностранным влиянием».
Необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. Ситуация с «азиатской реакцией» Иваном IV не являлась особенностью одной лишь Руси. В Европе находилось достаточное число монархов, которые боролись за сохранение «азии» в своих государствах. Особенно отличились на этой стезе испанские (особенно Филипп II) и португальские короли, вместо опричнины прибегавшие к инквизиции и загнавшие свои страны в болото отсталости куда большую, чем у царской России. В заповедную зону «азиатчины» превратили неаполитанские монархи юг Италии, влияние которого на Сицилии и Сардинии сказывается до сих пор. Деспотизм в Европе сдавал свои позиции постепенно и в ожесточенной борьбе с нарождающимся гражданским обществом.
Следствия
Может о поражении «западников» не стоит сожалеть? Иван IV, отстаивая в своих сочинениях свой взгляд на самодержавие, не раз в качестве негативного примера приводил слабую королевскую власть в соседней Речи Посполитой. Аргумент получался увесистым. Главная причина слабости объединенного государства Польши и Литвы состояло в том, что король не имел возможности справиться с феодальной либеральной вольницей и собрать надлежащее количество воинов и денег. И среди московского боярства возможно были желающие установить подобные «западные» порядки в Российском государстве.
Другой источник слабости Речи Посполитой крылся в нечетком разделении властей. Законодательная власть в лице Сейма постоянно вмешивалась в дела исполнительной власти (короля и его администрации), блокируя их решения. О каком нормальном законотворческом процессе может идти речь, если один-единственный депутат мог наложить вето на решение большинства? Исполнительная власть была децентрализована и ослаблена «свободами» шляхты и магнатов до бессилия. (Речь Посполитая была устроена не столько по демократическим, сколько по либеральным принципам. Разницу между демократией и либерализмом Россия практически познает в период с марта по октябрь 1917 года, а затем в 1990-е гг.)
Крайне неудачное построение механизма функционирования сословной монархии в Речи Посполитой служило дополнительным аргументом не только для Ивана Грозного, но и для всех сторонников жесткой централизации. Слабым местом этих доводов являлась сама личность Ивана IV и ему подобных во главе иерархической пирамиды, способных уничтожать неугодных под влиянием каприза, подозрений и совершать другие действия, наносящие ущерб обществу. «Избранная рада» сумела найти золотую середину, сочетая государственный централизм с местным самоуправлением на основе сословного представительства. Подкреплялась эта система не «традициями», не упованиями на божье вразумление царя, а законодательством. Традиции не гибки, их сложно видоизменять, исходя из потребностей времени. Чтобы изменить традицию порой требуется смена поколений. Куда легче принять новые законы. При этом законодательство способно сохранять в себе привычность традиций и требуемую жизнью гибкость. Ни демократия Речи Посполитой, ни тем более восточная деспотия такого механизма не имели.
Бесформенная демократия Польши и деспотизм Ивана IV были одинаково тупиковыми в жизнедеятельности общества и государства, двумя крайностями с одним логическим концом – крахом. Тогда как Западная Европа пошла по пути «золотой середины», к которой интуитивно стремились Адашев и его единомышленники. Этого важнейшего обстоятельства не понимают многие историки, описывающие время «Избранной рады» и причин конфликта с ней Ивана IV.
Кончина тирана в 1584 г. дала возможность стране выйти из полуобморочного состояния и вернуться к нормальному развитию. При слабом царе Федоре во главе правительства стоял даровитый государственный деятель Борис Годунов. Он довольно быстро выправил многие провалы Ивана IV. В 1590 г., в ходе кратковременной военной кампании (всего месяц!), было возвращено Балтийское побережье, утерянное по перемирию 1583 года. В 1595 г. был получен назад северный берег Онежского озера с городом Карела. Таким образом, основные территории, потерянные в Ливонской войне, были возвращены в состав Русского государства, причем сделано это было без большой войны и с минимальными затратами. Годунов вновь продемонстрировал успешность стратегии Ивана III – наступать, выбирая выгодный момент, и сразу после успеха предлагать мир.
В 1591 г. удалось отразить набег крымского хана, который подошел к Москве с большим войском. На месте успешного отражения атаки воздвигли Донской монастырь. И все же кочевникам удалось пограбить пограничные рубежи страны – районы нынешней Тульской и Рязанской областей. Получается, что правы были Сильвестр с Адашевым, требовавшие в свое время добить остатки Батыева наследия. Нормально жить с Ливонским Орденом под боком можно было, а с непокоренными степняками – нет. Однако было поздно. «Крымский гадюшник» окреп и теперь, находясь под защитой Османской империи, терзал постоянными набегами огромную территорию от Венгрии до Волги.
Понемногу восстанавливалось разоренное народное хозяйство. Государство смогло вернуться к курсу, намеченному «Избранной радой» – колонизации южных и восточных районов. На юге были основаны города-крепости Воронеж (1585), Елец (1592), Кромы (1594), Курск и Белгород (1596) и много других укрепленных пунктов. Тем самым границы переносились вглубь Дикого Поля, не давая кочевникам возможности врываться в центральные районы страны.
В 1580-е годы в Поволжье закладываются новые крепости, такие как Уфа, Самара, Саратов, Царицын.
В Сибири были основаны Тюмень (1586), Тобольск (1587), Нарым (1593), Сургут (1594), Верхотурье (1598)… Кстати, вопреки расхожему мнению, присоединение Сибири произошло не при Иване IV, а в правление царя Федора (а фактически Б. Годунова). Поход Ермака явился лишь разведкой боем и то малоудачным. Ермак и большая часть его отряда погибла в 1584 г. Остатки казаков повернули назад. И посланный по приказу Ивана IV отряд стрельцов оказался плохо подготовленной вылазкой, закончившийся их гибелью от холодов и голода. Однако миф, что присоединение Сибири произошло при Иване Грозном почему-то угнездился в массовом сознании., хотя все крупные мероприятия царя в его самодержавный период правления заканчивались неизменным провалом.
Сам Ермак показал себя великолепным воителем, а его казаки – отличными воинами. Но две голодные зимовки и многочисленные схватки опустошили отряд. Тяжелым ударом стало предательство одного из племенных вождей, заманивших к себе казаков и убивших их ночью. Ермаку надо было возвращаться за новыми силами. Разведка в целом удалась. Он знал теперь местность, силы противника, потребности для экспедиции. Но Ермак оказался плохим стратегом. Он повел остатки отряда в очередной поход, который закончился его гибелью. Оказалось, что наскоком да малыми силами большие дела не делаются. Сибирь оказалась не Мексикой или Перу с благоприятным для испанцев климатом и обилием продовольствия. В России все было иначе. Лишь правительство Б. Годунова сумело организовать правильный захват новых территорий, создавая опорные пункты – остроги, с присылкой новых подкреплений, и созданием регулярной администрацией. Упорядоченность и планомерность – вот что было сильной стороной политики Годунова.
В 1598 г. воевода Воейков окончательно разбил хана Кучума и пленил его семью. На том покорение Западной Сибири было завершено.
Б. Годунов стал первым царем, пославших учиться за границу группу русских юношей. Но Смута перечеркнула эксперимент. Лишенные финансовой помощи, новым правителям они оказались без надобности.
Годунов никого не казнил, не разорял, а без шума делал большое дело, поэтому «общественность» его помнит не по результатам, а по пушкинскому: «мальчики кровавые в глазах». По другому – неинтересно.
После 25-летнего зигзага государство, вернувшись к курсу 1550-х, времен «избранной рады», казалось бы, вновь обрело устойчивую орбиту. В 1598 г., после смерти бездетного царя Федора, на престол был избран Б. Годунов, доказавший делом свою способность осмысленно управлять государством. Причем на началах спокойной, без судорог, хозяйственной и политической эволюции. Для средневекового, медленного по своей сути общества, это было то, что нужно.
Ничто не предвещало большой беды, как вдруг, в 1605 году, государственное здание в одночасье стало рушиться.
Смута вместо эволюции
Конечно, это «вдруг» имело свою предысторию. В начале ХVII века произошла климатическая катастрофа. Три года подряд непогода губила урожай. Голод 1601-1603 гг. унес сотни тысяч жизней. В Москве не успевали убирать трупы. Авторитет Б. Годунова резко упал, в чем историки видят причину начала последующих событий. Однако вряд ли высоким был авторитет у Ивана IV к концу его царствования, но ничего худого не произошло. Разница заключалась в том, что Ивану Грозному никто не бросал реальный вызов. Все «заговоры», против которых он так усердно боролся, были им выдуманы. А вот Годунову был брошен реальный вызов. В кучу хвороста бросили спичку. Возгорание могло быть ликвидировано, но получилось иначе. Из искры впервые в российской истории разгорелось всепожирающее пламя.
В октябре 1604 г. русско-литовскую границу перешел военный отряд во главе с самозванцем Григорием Отрепьевым, объявившим себя чудесно спасшимся сыном Ивана Грозного Дмитрием. Настоящий Дмитрий, наследник престола, погиб восьми лет отроду при двусмысленных обстоятельствах в Угличе, якобы напоровшись на собственный нож в припадке эпилепсии. Так это или нет, но смерть последнего представителя династии Калиты открыла дорогу к трону Борису Годунову, поэтому на него пало подозрение в организации убийства царевича. И вот убиенный воскрес и предъявил свои законные права на шапку Мономаха. Дело для Руси было новое. Борьба за высший титул в государстве велась неоднократно, но в рамках феодальных правил. Претендовали те, кто имел на то полное право. А тут чистой воды мистификация. Все должно было закончиться мелким историческим событием, а получилась катастрофа. После трехлетнего мора, когда люди умирали после мучительной пытки голодом, и конца этому не виделось (это мы знаем сроки голодовки), и воспринимался этот природный катаклизм, как наказание божье. За что? Лучшим вариантом ответа, чем кара за убиение невинного отрока царевича Дмитрия и узурпация трона – не сыскать. По логике получалось: чтобы избежать небесного проклятия следовало избавиться от царя-грешника. Отрепьев эти настроения прекрасно знал и решил ими воспользоваться. Он попытал счастье и попал в точку.
Начало предприятия самозванца, как и должно было быть, оказалось малоудачным. Его отряд был скоро разгромлен, уцелевшие иностранные наемники вернулись домой. Лжедмитрий тоже собрался было ретироваться, но остаться уговорили жители приграничного Путивля, где находилась его ставка. Если бы не активная поддержка казачества и широких слоев населения южнорусских городов и волостей, авантюра с походом закончилась бы в считанные месяцы. Войско самозванца не выиграло ни одного полевого сражениями, будучи неизменно битым царскими войсками. Но на южных окраинах страны заполыхало восстание. Причем в таких масштабах впервые в истории Русского государства.
Вообще, в истории Смуты многое было впервые. Впервые на троне восседал царь из «простых» бояр, выбившийся на самый верх благодаря родству с женой царя Федора (Годунов приходился ей братом). Впервые за трон начали борьбу самозванцы. Впервые страну охватили массовые и долгие по времени восстания, переросшие в гражданскую войну. Впервые рухнула государственная власть и началась анархия. И все это результат трех лет голода? Неужто так сытно жилось русскому люду в прежние времена? Нет, голодали и прежде. Особенно голодными выдались 1569 и 1570 годы, усугубленные эпидемией холеры. Умирали тысячами. Царь никакой помощи бедствующим не оказывал, и ничего, обошлось. Причина «мирного настроения» населения была проста – оно пасовало перед сильной властью. Так было и есть во все времена. Последний в этом ряду был Николай II, сколь мягкий по характеру, добрый человечески и потому неспособный запугать подданных. С Годуновым, вроде бы, все обстояло наоборот.
В 1605 г. вся государственная система развалилась вопреки логике. С виду власть также была крепка. Б. Годунов принял энергичные меры по ликвидации похода Лжедмитрия. Получив известия о готовящемся вторжении, он немедленно объявил сбор дворянского ополчения. Местом схода был назначен Брянск. Не зная маршрута движения претендента на трон, полки из Брянска могли легко повернуть к Смоленску или к Десне, в зависимости от выбора направления отряда самозванца. Дальше события развивались следующим образом. Лжедмитрий выбрал путь через южные рубежи России, перейдя границу 13 октября 1604 г. После некоторых успехов (взятие Чернигова и т.п.) в январе 1605 г. царские полки разбили его рать. Польский сейм, открывшийся 10 января, высказался за сохранение мира с Россией. Канцлер Польши Я. Замойский открыто осудил поход Отрепьева. Его подержал литовский канцлер. Сейм принял решение не помогать «царевичу Дмитрию» и запретил это делать королю. В войске самозванца начался разброд. Но тут произошло первое для Годунова предательство. Восстали южнорусские крепости, переметнувшись к самозванцу – Кромы, Путивль, Курск, Оскол, Валуйки, Белгород, Елец, Ливны… Это те крепости, что создавались правительством Годунова в 80-е годы, когда был взят курс на завоевание Дикого Поля и перенесение южных границ государства как можно дальше на юг для защиты центральных районов от набегов кочевников. И вот именно эти люди и эти крепости стали тем порожком, о который споткнулась династия Годуновых. Может быть все еще и обошлось бы, даже наверняка обошлось, если бы не смерть Годунова 13 апреля 1605 г. (Опять 13-е число: самозванец, напомню, вошел в пределы страны 13-го числа). Встав из-за стола, царь Борис почувствовал себя дурно, и умер через два часа. И психологическая ситуация в верхах резко поменялась. Хотя на трон сел сын Годунова Федор, однако для многих 16-летний царь был не авторитет.
В мае 1605 г. в царской армии, осаждавшей Кромы, где заперлись остатки казачьих отрядов, поддержавших самозванца, произошел мятеж. Группа дворян отказалась давать присягу Федору и покинула лагерь правительственных войск. В верных царю войсках воцарилась растерянность, они даже не пытались подавить мятеж. В нового царя мало кто верил. Помитинговав, оставшаяся часть дворянского ополчения мирно разъехалась по домам. Часть полков, перед тем как разойтись, приняла присягу «царевичу Дмитрию». Когда обрадованный неожиданным спасением своего дела Отрепьев приехал в брошенный лагерь царской армии, то нашел там 70 исправных пушек крупного калибра, запасы пороха, ядер, палатки и прочие воинское имущество. Окрыленный «божьим чудом» Отрепьев с небольшим отрядом устремился к Москве. На Оке его встретили верные царю Федору стрельцы и не дали переправиться на другой берег. Новая неудача не помешало окончательной победе. Пробравшиеся в Москву представители самозванца 1 июня принялись читать толпам москвичей грамоты «царя Дмитрия». Они имели такой успех, что никто не посмел арестовать агитаторов. Началось что-то вроде дискуссии, которая переросла в открытое восстание. Были разгромлены и разграблены дворы Годуновых, их родственников, царские палаты. Но обошлось без жертв. В финале часть толпы устремилась к винным погребам, где началась грандиозная попойка. На этом восстание фактически и закончилось. Стихийный бунт, выплеснув эмоции, сам прекратился. Но власти в Москве больше не было: ни Годуновых, ни какой другой. Сторонники Годунова находились в полной прострации. Среди них не нашлось ни одного толкового руководителя. Можно было вызвать часть стрельцов с Оки, можно было выехать из Москвы за поддержкой в другие города, ведь, например, в волжских городах, во Владимиро-Суздальской земле и в некоторых других районах страны, где принятие присяги Федору прошло без каких-то проблем. Но будто чья-то сила парализовала волю царствующей династии. «Ничейная ситуация» заставила московское боярство искать свой выход. Решено было вступить в переговоры с «царевичем Дмитрием».
Знаменательно, что депутацию Боярской думы возглавил бывший командующий армией, действовавшей против Лжедмитрия, и даже раненый в одном из боев, князь Ф.И. Мстиславский. 3 июня большая группа бояр и думных чинов выехала из Москвы.
Произошло очередное нелогичное событие. Правящая элита добровольно поехала сдавать власть какому-то проходимцу. В чудесное избавление царевича Дмитрия от смерти вряд ли кто из них верил. В силу своего положения и связей они знали все обстоятельства дела. Еще жив был начальник следственной комиссии угличского дела Василий Шуйский, видевший тело Дмитрия собственными глазами. И на похоронах было достаточное количество представителей верхов и церкви, чтобы затем поверить в «воскрешение царевича». Со времен Иисуса Христа воскрешений не наблюдалось, а тут… Не понятна позиция иерархов церкви. Чудо воскрешения по их части. Могли бы отрядить депутацию в стан «царевича», чтобы по божьему внушению определить, кто перед ними. Но ни к Богу, ни к здравому смыслу власть имущие обращаться не стали, а просто капитулировали перед самозванцем.
Было еще одно важнейшее обстоятельство. Ведь царь – не просто должностное лицо, это еще и круг приближенных, которые зачастую и правят на деле государством, имея от этого соответствующие дивиденды. Передавая трон Лжедмитрию, они тем самым отдавали ему на откуп всю иерархию чинов и должностей. А с учетом нравов того времени и тех социальных сил, что он вел с собой в Москву (разбойных казаков, алчных наемников, нищих дворян), рисковали они всем – от имущества до своих жизней. Зачем? В свое оправдание бояре могли только сказать, что попали в психологическую ловушку. Народ не хотел видеть Годуновых на троне, а выдвигать в это время кандидатуру другого царя (по родовитости на трон могли претендовать Шуйские, Романовы, Трубецкие и Голицыны) не было времени. Ведь такой пирог в одночасье не поделишь! Да и чтобы применить силу против восставшей толпы требовался лидер, а его-то в нужный момент среди элиты не оказалось. И события пошли по течению, то есть тем чередом, которые мы знаем.
Прибывшая к «царевичу Дмитрию» депутация договорилась о передаче власти. Сам он в столицу не спешил, опасаясь подвоха. Вместо себя послал верных людей с приказом убить Годуновых и тем самым окончательно разрубить династический узел. Мать и сын Годуновы были задушены. Удивительное совпадение: мать Федора Годунова была дочерью известного палача и любимца Ивана IV Малюты Скуратова. Ее палачом и ее сына стал «сын» Ивана IV. Круг замкнулся.
Иван IV незримо присутствовал в разыгравшейся драме. Головной отряд самозванца привел П.Ф. Басманов. «Именно отец царицы – Малюта Скуратов положил конец блестящей карьере Басмановых в опричнине. По его навету инициатор опричнины Ф.А. Басманов был казнен, а его сын А.Ф. Басманов умерщвлен в тюрьме. П.Ф. Басманов не имел оснований щадить дочь Малюты и его внука царевича Федора Борисовича» (7. С.118). Непосредственно убийством занимались «М. Молчанов и А. Шерефединов, имевшие за спиной опыт опричной службы» (7. С. 75). Это еще не все. Главным организатором переворота в Москве был Богдан Бельский. Самое интересное то, что он был… племянником все того же Малюты Скуратова! А свою карьеру в молодости начинал опричником и входил в ближний круг Ивана IV. «Железо» ковали те еще кадры…
Одним из противников Лжедмитрия оказался патриарх Иов. Самозванец поручил дело Иова тем людям, что казнили Федора Годунова. «Церемония низложения Иова как две капли воды походила на церемонию низложения митрополита Филиппа Колычева опричниками. Боярин П.Ф. Басманов препроводил Иова в Успенский собор и там проклял его перед народом…», – сообщает историк (5. С.140). Но и сам Иов был из «тех самых». «Местом заточения Иова был избран Успенский монастырь в Старице, где некогда он начал свою карьеру в качестве игумена опричной обители» (5. С.141). Наверное, историки, специально занимающиеся той эпохой, могли бы привести не один подобный факт связи действующих лиц периода Смуты с эпохой и деяниями Ивана IV. Будто злой дух Ивана Душегубовича вселился в Григория Отрепьева, чтобы, опираясь на свои «кадры», еще раз пройтись кровавым ураганом по русской земле.
Кстати, желающий создать исторический триллер об исторических событиях Смуты может найти не только массу кровавых деталей, но и на основе этих фактов выстроить интересную мистическую драматургию. Помимо вышеуказанной фамильной переклички эпох, стоит обратить внимание на следующие странные нюансы. Историками доказана непричастность Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия. Он умер на глазах детей, в кругу которых играл в ножички. К тому же сильно страдал от эпилепсии. Но умереть, наткнувшись горлом на собственный ножик – случай неординарный. Будто и вправду кто-то невидимый толкнул под руку мальчика. Далее: перед появлением самозванца три года свирепствовал невиданный на Руси голод. Показательно число голодных лет – мистическое «три». И, наконец, как только самозванец стал терпеть поражения, так сразу наступила скорая смерть Годунова. Все выстраивается в некий роковой ряд, звенья которого можно легко продолжить. Но мы пишем не мистический триллер со злым духом в качестве центрального персонажа, а прагматический рассказ о том, как мы – европейцы – становились «азиатами». Более интересен следующий психологический момент. Иван IV, совершая беспричинные казни, все время боялся ответного мятежа и неоднократно разрабатывал планы своего спасения, включая эмиграцию в Англию. Однако разоряемая страна все безропотно стерпела и, как утверждают историки, в народе даже сложилось представление о нем, как о справедливом царе, боровшемся с боярами-лиходеями. Зато Борис Годунов, который раздавал в голодные годы зерно из государственных амбаров и денежные средства нищим, оказался ненавистен народу и сподобился мятежа. Как это понять? Как следствие укоренения рабской психологии в обществе, о чем писал И. Шварц в притчевой пьесе «Дракон», или что-то еще? Однако до внедрения в общественное сознание психологии «поголовного рабства» было далеко. Конечно, страх перед террором, безоружность населения перед внутренним, безжалостным государством делало его «смирным». Но после смерти Ивана IV накапливаемая десятилетиями негативная энергия народа прорывалась в московских волнениях 1584 года и повторилась в 1586 году. Последующая политическая и экономическая стабилизация способствовала установлению внутреннего мира, как оказалось, очень хрупкого. За это время мефистофельский яд Ивана Грозного не вышел из пор общества. Никогда в своей полутысячелетней истории не бунтовавшей против центральной государственной власти народ взбунтовался, круша свою страну. Будто разом вышел весь скопившийся гной…
Восшествие на престол самозванца отнюдь не означало чего-то страшного. Вполне возможен был оптимистический сценарий развития событий. Прежде всего, новоявленный царь Дмитрий не был глуп. Наоборот, историки отмечают в нем много положительных качеств – смелость, ясность мышления, твердую веру в свою избранность. Последнее давало надежду, что со временем он поведет себя не как временщик, а как государственный деятель, пришедший не воровать и затем убежать, а обустраивать свое государство. Однако у царя «Дмитрия» существовал один существенный недостаток, свойственный людям, получившим доступ к «бесплатным» государственным деньгам, – страсть к мотовству. Новый царь лихо раздавал долговые расписки на огромные суммы. Процесс раздач затормозился, когда казенный приказ (тогдашнее министерство финансов) ограничил его траты, с чем самозванец смирился. А в целом царь «Дмитрий» начал неплохо. Прекратил казни опальных и даже вернул им, включая родственников Годунова, захваченное у них имущество. Чуть было не казненный Василий Шуйский (указ о помиловании был оглашен, когда тот уже был на плахе) вновь стал заседать в Боярской думе. Наиболее ретивый гонитель, Богдан Бельский, попытавшийся было возродить опричные прядки, был услан помощником воеводы в Новгород. Никаких репрессий против тех, кто усердно воевал с «царевичем Дмитрием», не было. Новый царь провозгласил гражданский мир и приказал дьякам составить новый кодекс законов – очередной Судебник. И то, что в Москве оказались представители других социальных слоев населения, прежде всего казачества и мелкопоместного дворянства, могло, вроде бы, обернуться введением парламента в России в виде постоянно действующего Земского собора. Увы, ничего подобного не произошло. Например, предводитель отряда казаков в осажденных Кромах атаман Андрей Корела, получив огромное денежное вознаграждение за проявленное мужество, попросту запил. На этом его геройская карьера закончилась. В том же духе действовали и остальные казаки.