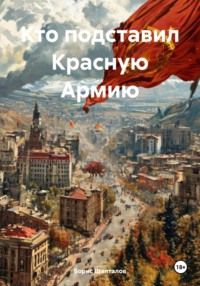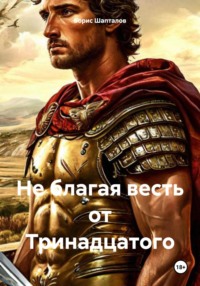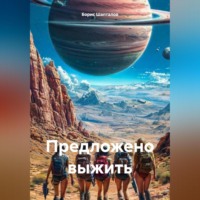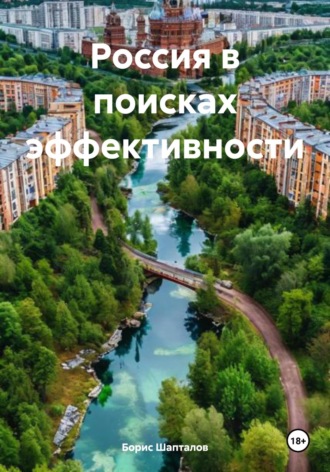
Россия в поисках эффективности
Судебник 1550 г. вводил институт присяжных заседателей – «судных мужей», которые должны были участвовать во всех судебных разбирательствах. Судья при этом назначался государством. Судебник впервые ставил под контроль земских властей деятельность государева наместника. Предусматривался институт земских представителей, т.е. выборных представителей от местного населения – от дворян, горожан и даже крестьян. Выборным чинам, в частности, вменялась обязанность следить за тем, чтобы наместники не брали взятки – «посулы».
Исследователь той эпохи Д.Н. Альшиц считал, что эти «судебные постановления своей последовательностью оказались выше всех попыток реформировать судебную систему в течение всех последующих столетий… Судебную реформу 50-х гг. ХVI в. можно назвать предшественницей судебной реформы 1864 г.» (2. С.55). В любом случае то был «европейский» тренд.
Выборное земское самоуправление впервые вводилось для дворян, которые получали, таким образом, политические права и из просто служивых людей превращались в некое подобие политически организованного класса. В государстве, где столетиями господствовал класс крупных феодалов – бояр и удельных князей, дарование права на выборное управление дворянам являлось шагом принципиального значения. Этим расширялась сословная база государства и царя в частности. Теперь царь мог лавировать в борьбе с феодальной аристократией, привлекая на помощь дворянство. Недаром реформы Адашева и Сильвестра историки обычно относят к продворянской направленности. Но они не забыли и другие социальные слои. Права на земство получили горожане. Исключение составили города Москва, Казань (как недавно завоеванный город), Новгород, Псков (сохранялся страх перед их недавней вольницей) и южнорусские пограничные города (во имя интересов обороны сохранялась централизация). Если бы эти положения Судебника были реализованы, то города Руси по социальному устройству во многом стали бы походить на города Западной Европы.
Примечательно, что Судебник был принят не келейно, а в ходе обсуждения на Земском соборе 1550 г., на собрании представителей основных сословий страны, впервые собранном в Московско-Русском государстве. 20-летний царь, конечно, не мог сам дойти до подобных шагов. Ему подсказали и настояли советники «избранной рады».
Другие реформы были не менее нужными. В 1556 г. вышло Уложение о службе, устанавливающее единообразный порядок организации военных сил. Все землевладельцы выставляли определенное количество воинов. Теперь можно было заранее рассчитывать количество вооруженных формирований на случай войны. По существу, вводилась и упорядочивалась мобилизационная система.
Унифицировалась система государственного управления. Вместо рыхлых по управленческим функциям «дворцов», вводились новые органы управления – приказы. За приказами закреплялись определенные направления деятельности и конкретные участки работы. Например, Разрядный приказ отвечал за дворянское войско, Посольский – за обеспечение дипломатической деятельности, Большой приход ведал сбором налогов и т.д.
Была проведена реформа податного обложения (налоговая реформа). Уточнены размеры и виды налогов. Важнейшим шагом была отмена налоговых привилегий для феодальной аристократии, которая долгое время не платила налогов, выбив от царя соответствующие грамоты – «тарханы». Отныне тарханы упразднялись, и выдавать их вновь воспрещалось. (Показательно, что проблема «тарханов» вновь стала одной из острейших проблем в 1990-е годы, и на отмену налоговых привилегий для новой финансовой аристократии ушло много времени и сил).
Реформаторы не пощадили и такую любимую «мозоль» феодальной аристократии, как система кормлений. В соответствии с традицией, назначаемые из Центра наместники получали вверенные им территории в фактически полное экономическое распоряжение. Все издержки «управления» наместники выколачивали с местного населения, исходя из размеров своей совестливости. (Любопытно, что система кормлений в России фактически была восстановлена в 1990-е годы. Наместниками стали выступать губернаторы и республиканские президенты, присвоившие себе право на неограниченную коммерческую деятельность в границах контролируемой ими территорий. Так что опыт «избранной рады» отнюдь не устарел).
По указу 1551 г. существенно ограничивалась передача земель монастырям. Этот указ продолжил линию Ивана III, направленную на то, чтобы как-то ограничить безмерное обогащение церкви, которое било по самой церкви, разлагая ее. Как писал Иван Стоглавому собору: «В монастыри постригаются не ради спасения души, а покоя ради телесного, чтобы всегда бражничать». Но главное, переход земель к монастырям сокращал доходы государства и количество выставляемых с них воинов.
Обозревая приведенные краткие итоги реформ, остается только согласиться с теми историками, которые считают, что они «имели тенденцию направить развитие страны на иной путь, чем военно-феодальная диктатура в политическом устройстве и крепостничество в основе экономики, а именно – на путь укрепления сословно-представительной монархии…» (2. С.61). То был европейский путь развития государства и общества.
По совсем иной дороге пошел оперившийся царь. Традиции Ивана III были отвергнуты и взят курс на усиление «восточных» элементов в государственном устройстве. На место централизованной государственной власти европейского типа пришла централизованная восточная деспотия, не ограниченная никакими законами и моральными нормами. Утвердился абсолютизм в самом худшем и разрушительном варианте.
Уже не одно поколение историков бьется над загадкой опричнины, пытаясь найти ей рациональное объяснение. Борьба за централизацию государства? А разве этого не сделал Иван III? Или государство утеряло централизованное управление в последующем? Да, произошло ослабление власти при малолетстве Ивана IV, но оно было восстановлено при совершеннолетии государя. Только повышение уровня титула с великого князя (великого, но среди других князей) до уровня царя чего стоит! Походы на завоевание Поволжья и начало Ливонской войны доказывают, что никто в городах и землях не пытался оспорить власть царя, а само государство было на подъеме. Борьба с боярским своеволием? Но ничего сверхординарного до введения опричнины не произошло. Иван IV еще в юности казнил нескольких бояр, например, такого родовитого, как Андрей Шуйский, и никто бунтов в связи с этим не устраивал. Детальный анализ вновь и вновь наводит на выводы, сделанные еще Карамзиным: дело не столько в идеях и тем более не в потребностях государства, сколько в специфической психике сильно напугавшегося в детстве, с ущемленным самолюбием человека дорвавшегося до власти. Собственно именно этим и страшна деспотия, что целое государство начинает зависеть от психологических проблем правящего лица. Потому и приходится деспоту массово уничтожать «виновных» и невиновных (зато подозреваемых), что без этого немыслимо создать деспотичную власть и ощутить себя в полной психологической безопасности. Правда, мнимой, так как боязнь, что тебе отомстят родственники и друзья казненных остается до конца жизни и толкает к раскрытию новых «заговоров». Этим обществу наносятся тяжелые раны, заживление которых может растянуться на десятилетия, хотя деспотический режим заканчивается со смертью деспота. Такой вид экстремистского деспотизма редко закрепляется в виде традиции, слишком не выгоден он обществу и государству. Поэтому по смерти «самодержца» его же приближенные начинают «отматывать историю» назад, приводя управления из чрезвычайного в нормальное состояние. Так было после Ивана IV, Сталина, Мао Цзэдуна…
Иван IV, как и все деспоты, имел вполне осмысленную цель, достижение которой можно выразить одним словом – «всевластие». Обычному человеку трудно осознать, как сладостна такая вещь, как власть. Такому человеку легче понять силу другой власти – власти денег или власти славы. Но лишь «власть власти» обнимает все эти компоненты – и богатство, и славу, и чинопочитание с раболепием, и легкий доступ к сексуальным утехам (вопреки церковной традиции Иван только женился семь раз), и удовлетворение других любых самых потаенных страстей и страстишек, например, тяга к садизму и садомазохизму. Все это в жестких условиях средневековых моральных норм в полной мере можно получить только при обладании абсолютной властью. А если тебя сподобило родиться царем? И только тебе повезло, раз ты единственный ребенок в семье? Значит, это везение не просто так, ведь все от Бога! Вот только окружение мешает стать тем, чем хочется своими нудными нотациями (а священник Сильверст до конца вразумлял царя, в том числе против содомизма). Чтобы убрать надоевших «воспитателей» и противоречащих ему советчиков и утвердить свою никем и ничем не ограниченную власть требуется теоретическое обоснование. Оно есть: самодержавие есть власть свыше! Значит, кто противится желаниям царя, тот враг, злоумышленник и царя и Бога!
Этот тот случай, когда личное совпадает с «общественным», но своеобразным – антиобщественным – образом.
Опричнина была не средством укрепления государства, как это пытается представить прогрозненская историография, а средством установления режима личной неограниченной власти, то есть деспотизма. Ивана IV жаловался в послании Курбскому, что его советники заставляли делать многое против его воли. Даже поход на Казань, свидетельствовал царь, был совершен по их настоянию. «…вы не только не хотели мне быть послушны, но всю власть с меня сняли, сами государили как хотели, я только словом был государь, а на деле ничем не владел», – писал царь Курбскому во втором письме. В этом вся суть дела. Не в том, что Иван Васильевич «ничем не владел». Тут он здорово прибеднялся. Иван IV хотел быть властителем до конца, «государить», как хочется.
В ответном письме Курбскому, задетый за живое его рассуждениями о необходимости иметь при себе советников и даже всенародное собрание, царь писал: «Ведь ты в своей бесосоставной грамоте твердишь все одно и то же, переворачивая «разными словесы», и так, и эдак, любезную тебе мысль, чтобы рабам помимо господ обладать властью… Это ли противно разуму – не хотеть быть обладаему своими рабами? Это ли православие пресветлое – быть под властью рабов?»
«Всё рабы и рабы, и никого больше, кроме рабов», – прокомментировал этот пассаж В. О. Ключевский (3. Кн.1. С.478).
Два письма царя к Курбскому дают прекрасный материал к пониманию хода мыслей Ивана IV. В них он без конца варьирует один и тот же тезис: власть царя дана Богом, и никто на земле не вправе ее ограничивать. А потому он постоянно с ненавистью поминал Адашева и Сильвестра, умысливших эту власть поставить в рамки. Только необъятная и неподсудная власть царя над своими подданными, – иного Иван Васильевич не признавал.
Теория самодержавия в устах Грозного – это «теория» общества поголовного рабства. В своей публицистике Иван IV выступил теоретиком и защитником типичной восточной деспотии – Золотой Орды на московский лад. «…с той поры его царственное Я сделалось для него предметом набожного поклонения. Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти», – резюмировал Ключевский (3. Кн.1. С.504).
Иван Грозный, в сущности, был язычником, молящегося по христианским обрядам, но к учению евангельского Христа, не имеющий никакого отношения. Впрочем, язычество во Христе было распространено в Средневековье, точно так же как и в наше время.
Правление Ивана IV оказалось «судьбоносным». Чтобы установить режим поголовного рабства необходимо было свершить определенного рода политическую революцию. Иван IV ее совершил. То была «революция» сверху, и направлена она была на изменение государственно-управленческих порядков. Видный историк С.Ф. Платонов справедливо считал, что опричнина «была, в сущности, глубоким государственным переворотом» (4. С.199). «Глубоким» в том смысле, что менялось политическое как политическое устройство (победа самодержавия в восточно-деспотическом варианте), но и государственная идеология и даже ментальность правящего класса. И получилось уже нечто большее, чем желание одного ущемленного самолюбия с большими психическими проблемами самоутвердиться за счет других (примеров тому масса, хоть в политике, хоть в обычной жизни). Иван IV произвел переформатирование государства Ивана III в иное качество.
(Забегая вперед заметим, что процесс «переформатирования» занял почти сто лет и завершился в середине XVII века утверждением крепостного права. А обратный процесс, начавшийся с реформ Александра II, занял не меньше времени, причем двое реформаторов – сам Александр II, а также Столыпин – заплатили за него своими жизнями).
Любое государство сильно своим управленческим аппаратом, или слабо из-за него. Иван IV не просто уничтожал людей, хотя и такое было, но сравнительно немного. Некоторые историки утверждают, что было убито всего-то порядка 3-4 тысяч человек, считая, что кровожадность опричнины преувеличена. Правда, трудно понять, кто мог в то время так точно вести статистику внесудебных расправ, например, во время погрома Новгорода, но даже если и так, вопрос не в количестве, а в «качестве» убиенных. Иван IV уничтожал кадры администраторов, военных и политических деятелей, в том числе знающих и талантливых, через которых и реализуется собственно политика государства. Начав с Сильвестра и Адашева, царь перешел на служивых людей от самого верха до самого низа. Опричнина, по сути, стала второй «кадровой (а точнее, антикадровой) революцией» в России, после Александра Невского и Калиты. Только в отличие от сторонников Орды, при Иване IV она была совершена методами не постепенного вытеснения, а истребления в ходе целенаправленной кампании одного слоя управленцев с заменой их качественно другим слоем.
В эпоху А. Невского и Калиты борьба с противниками симбиоза с Ордой растянулась по времени примерно на 70 лет (с 1250-х гг. до 1330-х). Иван IV утверждал «восточное государство», основанное на тотальном всевластии государя, в сжатые исторические сроки, используя для этого массовый террор, апогей которого пришелся на годы опричнины (1564-1572). Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что произошла смена управленцев, подбираемых по критериям Ивана III, типом, близким воззрениям Ивана IV. Различия этих типов в том, что первые служили не только великому князю, но и государству. Второй тип обязан был служить в первую очередь лично царю, а потом уже государству. Второй тип – это чиновник восточной деспотии. Первый тип управленца мог служить разным правительствам (как на Западе независимо от партийных выборов), осознавая такую нематериальную категорию, как государственный интерес. Второй тип служил Хозяину. Без создания такого управленческого аппарата, с таким типом управленцев нельзя было утвердить тоталитарное государство. Именно такое государство было конечной целью Ивана IV, за что собственно и заслужил от определенной категории людей титул «великого».
Опора на традицию играет большую роль в «узаконивании» террористического режима. Сталин привлек в качестве положительного примера Ивана IV. Сам Иван IV опирался на традицию, доставшуюся в наследство от золотоордынской гегемонии.
Но за все надобно платить. Тоталитарное государство с «обществом поголовного рабства» по сути держится на одном стержне – на властителе государства. Умри он или брось ему вызов узурпатор, и внешне сильное государство может рухнуть подобно карточному домику. Так произошло с государственной властью Руси, когда самозванец Лжедмитрий захватил власть. Правящая элита, прошедшая выбраковочную школу Ивана IV, переметнулась к новому Хозяину, не задумываясь о таких тонкостях, как истинные интересы страны. (После гибели Лжедмитрия она метнулась к Василию Шуйскому, от него к Лжедмитрию II, в том числе отец будущего царя Михаила Романова, затем – к польскому королевичу Владиславу… И это всего за несколько лет! И лишь гражданское ополчение Минина и Пожарского положила этому конец).
При Иване IV объектом массовых репрессий стали не столько группировки феодалов, сколько государственный аппарат управления. Истреблялись военачальники и прочие командиры действующей армии (среди них спаситель Москвы от войска крымцев в 1572 г. князь М. И. Воротынский), дипломаты (например, одаренный глава Посольского приказа И. М. Висковатый), чиновники приказов и так вплоть до церковных иерархов. В последнем случае это было «новым словом» на Руси, да и в мире, ведь обычно религиозных деятелей из-за политики не казнили. А при Иване IV казнили главу православной церкви митрополита Филиппа, а также архиепископа новгородского, архимандрита рязанского, игуменов нескольких монастырей.
Характерной особенностью утверждения тоталитаризма является внешняя нелогичность поступков деспота, совершение преступлений, которые не требовались, даже если исходить из «высокой» цели правителя. Во время карательной экспедиции на Новгород и Псков в 1570 г. под личным руководством царя были ограблены все местные монастыри (около 30) и церкви. В Софийском соборе Новгорода опричники выламывали даже иконы с богатыми окладами, не говоря уже о расхищении ценной церковной утвари. «Опричники забирали деньги, грабили кельи, снимали колокола, громили монастырское хозяйство, секли скотину. Настоятелей и соборных старцев били по пяткам палками с утра до вечера, требуя с них особую мзду. В итоге опричного разгрома черное духовенство было ограблено до нитки», – живописует Р.Г. Скрынников (5. С.151). Досталось и людям новгородского посада. «…опричники произвели форменное нападение на город. Они разграбили новгородский торг и поделили самое ценное из награбленного между собой. Простые товары, такие как сало, воск, лен, они сваливали в большие кучи и сжигали. В дни погрома были уничтожены большие запасы товаров, предназначенные для торговли с Западом» (5. С.152). Так причем здесь «государственные интересы»? Это описание типичного ордынского набега. Какой уж тут Судебник, о котором так пеклись Сильвестр с Адашевым.
Был ли смысл в этом варварском уничтожении ценностей? Да был, и «глубокий». Все эти преступления есть проба своих сил и проба общества на прочность. Если все эти «художества» проходят, значит работа деспота не пропала даром. Он и впрямь всевластен.
Иван IV развязал редкий вид гражданской войны – войну «сверху».
Любопытна «методика» репрессий. Сначала истреблялись старые управленцы руками опричников, затем сами опричники. В последнем случае тоже был свой глубокий смысл: уничтожались те, кто вошел во вкус убийств. Такие могли покуситься на кого угодно, при случае и на своего Хозяина.
Чтобы не оставлять возможных мстителей или недовольных, уничтожались или заключались в тюрьму ближайшие родственники репрессируемых – жены, сыновья. Четыреста лет спустя всю эту отработанную и оправдавшую себя методу повторил горячий поклонник «грозного» царя И.В. Сталин. «Отбор» кадров путем казней и опал шел на протяжении десятилетий. Террор сопровождался психологическим давлением, дабы страхом подавить любое критическое восприятие происходящего. Так, во дворы видных людей могли быть подброшены головы казненных накануне их знакомых. К психологическому террору следует отнести публичные казни, когда людей бросали в котлы с кипящей водой, топили в прорубях, четвертовали, раздирали медведями и пр. Иван IV крепил не только свое абсолютное всевластие, но и «ваял» рабские души людей, без чего абсолютная власть не может быть абсолютной. Он преуспел там, где делал это долго и сознательно – в центральных районах страны. Они и покорились затем самозванцам. Там же, где он не прошелся своим свинцовым катком, например, в восточных, поволжских, территориях, там началось патриотическое движение за восстановление российского государства.
Исходя из характера властвования, Ивана IV можно именовать не царем, а ханом всея Руси, ибо опричнина есть попытка превращения России из государства «европейского» в типичное восточное ханство. Для этого и свершалась «кадровая революция». И что показательно – попытка вторая (после ордынской трансформации), попытка удачная, и как оказалось не последняя.
После «кадровой революции» Ивана IV государство было низведено до такого состояния, что чуть не оказалось жертвой более слабой Речи Посполитой и даже Крымского ханства. В 1571 году впервые в истории Крымской Орды крымский хан совершил успешный набег на Русь. Кочевники прорвались к Москве, опустошив город и окрестности. Погром был такой силы, что Иван IV предложил хану мир с передачей ему Астрахани. Хан отказался, посчитав, что Русь уже не представляет военной опасности. На следующий год он собрал все имеющиеся у него силы. Под его руку перешла Ногайская Орда, кочевавшая на Кубани и признававшая до того протекторат Москвы. Поход 1572 года преследовал цель восстановить Золотую Орду. Царь предпочел покинуть Москву. Воеводы М.И. Воротынский (позже казненный) и Д.И. Хворостинин (отличившийся потом в войне со шведами) с поспешно собранной ратью, несмотря на превосходство противника, сумели разбить ордынцев и тем положили конец притязаниям кочевников на былое величие. То была победа вопреки, и можно даже сказать – последняя победа Ивана III.
У России, к счастью для нее, были слабые стратегические противники, которые могли выигрывать отдельные сражения и непринципиальные войны, но не партию в целом.
Но воинов на все фронты не хватало. С каждым годом царь со все большим трудом набирал военные силы. Не только крестьяне, но и сами дворяне обнищали. На войну идти было не с чем. Запашка земель уменьшилась наполовину. Финансы государства находились в плачевном состоянии. В Поволжье восстали местные народы. Лишь соперничество Швеции и Речи Посполитой за ливонские земли да великое упорство гарнизона Пскова, выдержавшего осаду польско-литовских войск, помешало им добить Московское царство.
В 1582 году Иван был вынужден заключить мир с Речью Посполитой, а в 1583 году – перемирие со Швецией. Польше доставалась южная часть бывшей Ливонии, Швеции – большая часть Балтийского побережья России от реки Нарва с городами Ям, Копорье, Ивангород до устья Невы, а также северный берег Онежского озера с крепостью Карела.
В то же время Ливонская война показала, сколь велик потенциал Московской Руси. Она оказалась объективно сильнее всех своих соседей. Только всем вместе им удалось отразить ее экспансионистский натиск, да и то при условии, что во главе ее стоял царь, рьяно уничтожавший в разгар войны своих подданных, включая государственную и военную элиту, и громивший свои города (Новгород, Торжок) почище неприятеля. Но, пожалуй, главным результатом войны стал окончательный отход западнорусских территорий под власть польского государства. В 1569 году была заключена Люблинская уния. До договору центр управления Литовско-Польским государством, а теперь Речи Посполитой, перемещался в Варшаву, а католицизм становился государственной религией.
Каковы общие итоги царствования Ивана IV? Они вышли за рамки единичного малоудачного царствования, которое исправляется преемником. Созидая разрушать – вот принцип Ивана, которому он следовал, ставший потом традиционным для российского управленческого менталитета. Иван IV вырыл яму, из которой стране пришлось выбираться много десятилетий кряду. Впервые за время существования Московского и Русского государства оно понесло территориальные потери. Впервые за много лет (по меньшей мере со времен феодальной войны при Василии II) произошло абсолютное сокращение населения страны и ее экономических показателей. Проще говоря, Русь была разорена.
Если противники в Ливонской войне воевали на своей территории лишь изредка вторгаясь в пограничные пределы, то Иван IV воевал по всей территории Московской Руси, нанеся в итоге куда большие потери стране, чем внешние враги. Однако традиция возвеличивания Ивана Грозного сохранилась до сих пор. Адепты Ивана IV не видят разницы между тем, что он хотел и тем, чего он смог достичь. Иван III, например, не только хотел, но и добивался государственных целей. В этом суть качественного управления и коренное отличие от неэффективного управления. Увы, уяснение этой разницы до сих пор остается «сложной» проблемой для определенного числа наших историков, политиков и публицистов при оценке тех или иных государственных деятелей. В то же время Иван IV достиг своих, сугубо личных целей, в частности ему удался масштаб репрессий. Здесь он явил не только количество, но и «высокое» качество.
Ивана IV не очень удачно прозвали Грозным. «Грозным» был Иван III. Ему досталось бремя утихомирить феодальные раздоры и преодолеть государственную раздробленность Руси. Он эту задачу выполнил казня и милуя, но не разоряя, а усиливая страну. Но слава достается Геростратам. В фокусе историков и писателей оказалась борьба Ивана IV в основном с надуманными врагами. Борьба бестолковая, с огромным уроном для государства, общества, экономики. Зато какие страсти! И многое ему за это как бы простилось. Ломание «дров» с обильными «щепками» превратилось чуть ли не в «фирменный» знак российского государственного управления. Качественное государственное управление и дипломатия Ивана III оказались в тени исследователей и авторов школьных учебников.