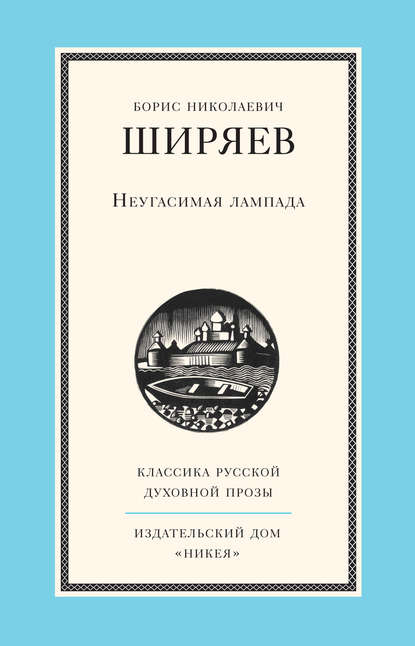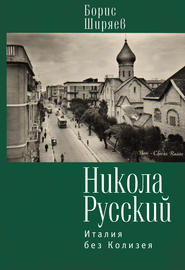По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неугасимая лампада
Автор
Жанр
Год написания книги
1954
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первый спектакль ХЛАМа имел бурный успех и в верхах и в низах Соловков, главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но все же дыхание свободы, а тосковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях рампы ту затаенную мечту, в которой признаться даже самому себе было бы постыдным ребячеством – мечту о «дальних странствиях».
Первая программа ХЛАМа была повторена три раза, и его руководителям был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся «разгрузочной комиссии» из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием.
– Можно и перцу подсыпать? – спросил в упор Эйхманса Глубоковский, получая заказ.
– Валите, не стесняйтесь, – ответил тот, – только чтобы было ярко и остроумно.
Весть об этом взбудоражила всех хламистов.
– Как? Свободно? Так что можно будет и правду сказать?
Скептики каркали:
– Ляпните эту правду и срок себе прибавите. Но горячие головы не робели.
– Чорт с ним, со сроком, зато…
Мудрый, знавший людскую душу и душу зрителя старик Борин одобрял:
– Можно. Генералы любят больше всего анекдоты именно о самих генералах. Ничего нет нового под Луной. Валите!
И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни ХЛАМа спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившем его имя взамен монастырского «Святой Савватий».
Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей. К рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию.
Шептали все… Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп:
Нас разгружать сюда приедет
На «Глебе Боком» – Бокий Глеб, —
звучит первый куплет приветствующей «разгрузку» песни.
Хор подхватывает рефрен:
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами,
Проживите здесь годочка три иль пять,
– Будете с восторгом вспоминать!
Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами:
В волненьи все, но я спокоен.
Весь шум мне кажется нелеп:
Уедет так же, как приехал,
На «Глебе Боком» – Бокий Глеб.
После вступительных куплетов, в которых пелось и знаменитом соловецком наказании «комариках» и о Секирке:
Хороши по весне комары,
Чудный вид от Секирной горы, —
шел скэтч «Губернатор Зеленого острова», добродушно-иронически, но остроумно и метко отражавший нравы администрации Соловецкой сатрапии и даже некоторыe личные черты владыки острова Эйхманса.
Эти искры своей мелкой бытовой соловецкой правды, блеснувшие на спектакле ХЛАМа, не сыграли, конечно, никакой роли в общей жизни самой каторги. Все осталось, как было. Но они необычайно подняли престиж ХЛАМа среди зрителей, особенно их «низов».
– Не побоялись! Прямо ему в нос табаку пустили! Эта крошечная щепотка «табака» переживалась нами с корпоративной каторжной гордостью. Приезжие члены коллегии поняли это и учли при «разгрузке». Результаты ее были незначительны: были освобождены лишь двадцать-тридцать человек уголовников и хозяйственников, а двум-трем сотням уменьшены сроки. Но в числе этих последних были руководитель ХЛАМа Б. Глубоковский (с десяти на восемь лет) и куплетист Жорж Леон (с трех на два года). ХЛАМ нес на себе печать нэпического ренессанса, и ее клеймо рельефно проступило при встрече нового 1926 года.
– Встреча нового года на каторге? – удивится читатель.
Да. Во-первых, календарь и на ней сохраняет свою, хотя и неполную силу. Каторжане тоже хотят дней веселья и радости, остро и напряженно их жаждут. А во-вторых, НЭП в это время был в своем полном расцвете.
«Обогащайтесь!» – воскликнул Бухарин, и многим показалось, что «построение социализма» уже растаяло пред лицом реальной жизни, отодвинуто ею на неопределенно далекий срок. Те же, кто не доверял отступлению «всерьез и надолго», обещанному Лениным, те, захваченные общим потоком, танцевали на вулкане.
Свой собственный НЭП был и на Соловках, отражавших каждую вариацию жизни советского материка. Была открыта коммерческая столовая. В ней играл струнный квартет, и можно было прилично пообедать за пятьдесят копеек. Заведовал ею «Парижанин», Миша Егоров, и был очень ловким метрдотелем. По ночам в ней кутили СОП-овские командиры, вольнонаемные служащие и привилегированные ссыльные чекисты. Премьеры театра тоже стали платными и на них можно было сидеть рядом со своей дамой, а не раздельно с ней, как обычно. Присылаемые заключенным деньги на руки не выдавались, но были выпущены боны универмага, которые котировались наравне с деньгами. В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У ссыльных валютчиков и хозяйственников деньги водились. Вот при такой «экономической базе» и соответствующем ей «духе времени» и была разрешена встреча нового года в театре, при условии необычайно высокой платы за вход – пять рублей. Ее организация была поручена тому же Мише Егорову, а декоративно-сценическая часть – ХЛАМу.
К этому времени новый, очень элегантный театральный зал был уже готов и над декорировкой его для встречи трудился тот же Коля Качалин, талантливый художник, по эскизам которого был оформлен сам зал. Он блеснул и здесь. Световые эффекты были то нежно мягки, то поражали своей неожиданностью.
Ни одного красного полотнища! Ни одного лозунга! Ни одного портрета «вождей»! Как не верится этому теперь.
Не было ни больших флагов и пошленьких гирлянд мелких флажков, ни возведенных тогда в культ декоративных механических фрагментов: шестерен, зубцов, рычагов… Тенденция конструктивизма была выражена в сочетании красок и геометрических формах.
Сцена была заполнена столиками, а в глубине блистала и искрилась хрустальная глыба льда. В ней шампанское, которое продавали самые изящные из обитательниц женбарака: высокая, с точеным профилем камеи Энгельгардт, блиставшая парижским (хотя и отсталым от моды) туалетом, чайница Высоцкая и кто-то из «бомонда»…
Зал был переполнен. Откуда-то появились приличные, даже хорошие костюмы. Стулья партера убраны, там – танцы, а на балконе – сооруженные тем же Качалиным футуристические киоски: огромные яркие зонты под ослепляющим прожектором. Это солнце, недостаток в котором так остро чувствовался на Соловках. Между зонтами – шедевр мастера сцены, старого, знавшего Шаляпина и даже побитого им (о чем вспоминалось с гордостью и умилением) театрального плотника и бутафора Головкина – пальмы диковинной породы, «совсем, как настоящие».
Снова иллюзия, реализация больной, сверлящей, сосущей мечты о невозможном, недостижимом, отнятом…
Для одних этот вечер был нирваной, временным погружением в прошлое, шагом назад, для других – тоже нирваной, но скачком вперед, в неизведанный мир блеска внешней материальной культуры. Кое-кто из шпаны тоже был на встрече нового года, но кто бы узнал на ней бандита Алешку Чекмазу или ширмача Ваньку Пана? Ступив в иную обстановку, они сами преобразились.
Буфет торговал вином, водкой, крюшоном с консервированными фруктами. Некоторые «буржуи» изрядно подпили, но ни одного скандала, ни даже резкого слова не было произнесено в этот вечер в зале театра на густо заматеренных Соловках.
Артисты выступали на сцене, между столиков. Там скользили нежные «китайские тени», горели при потушенном свете веселые разноцветные «светлячки», «фарфоровые кавалер и маркиза» танцевали жеманный старинный гавот… ХЛАМ дал в этот вечер все, что он мог, и трудно сказать, кто испытывал большую радость – зрители или артисты?
«Куранты» – гавот фарфоровых кукол танцевал я с проституткой-хипесницей Сонькой Глазком, гибкой и стройной, как танагрская статуэтка, под хрустальную россыпь Моцарта. Ставивший танец тонкий стилист, режиссер 2-го МХАТ Н. Красовский долго «обламывал» нас на репетициях и «вживал» в рисунок танца, но мы полностью «вжились» в него лишь на сцене. И теперь, через двадцать семь лет, вынимая тот вечер из глубины ларца памяти, я чувствую нежное прикосновение руки маркизы, сучившей пеньковые канаты, и подлинный (черт возьми!) аромат поданной мне ею бумажной (нет, настоящей, живой!) розы. В тот миг, только миг, я был кавалером де Грие, склонившимся к руке подлинной, реальной Манон Леско – каторжанки Соньки Глазок! Радость этого мига жива до сих пор…
Глава 9
«СВОИ»
Эмбрион свободы творчества – ХЛАМ встретил отзвук и в массах уголовников. Там был также создан сценический коллектив «Своих»[11 - Театр и коллективы ХЛАМа и «Своих» были атомами внутренней свободы в душах людей, уже взятых в железные тиски порабощения и размельчения личности системой социалистических концлагерей. Именно поэтому театр и запал так глубоко в память побывавших на Соловках в те и ближайшие к ним годы, о чем свидетельствует искренняя и яркая повесть Г. Андреева «Соловецкие острова» («Грани» № 8), в которой он отзывается о соловецком театре 1927 г. с особенной теплотой. – Б. Ш.].
Термин «свой» на блатном жаргоне определяет принадлежность к уголовному миру в отличие от «фрайера» – добропорядочного гражданина, объекта эксплуатации. В сознании уголовников он сливается с ощущением кастовой гордости. Эта психологическая черта русской шпаны очень недалека от корпорантского мировоззрения «славного старого Гейдельберга». Ведь и там, за дубовыми столами трехсотлетних пивных, мир делился на «добрых буршей» и «филистеров».
Традиции рождаются в «верхах» и просачиваются в «низы» медленно, но верно. В них они продолжают жить, хотя и в гротескной уродливой форме. Поблекший в «верхах» образ Чайльд Гарольда встает в ином наряде под заунывный мотив «классической» песни беспризорников «Позабыт, позаброшен», а слова песни:
Отцовский дом спокинул я,
Травою зарастет…
Собачка верная моя