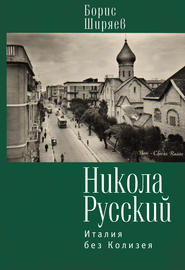По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неугасимая лампада
Автор
Серия
Год написания книги
1954
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что именно послужило причиной краха карьеры Миши – знакомство ли с парижскими эмигрантами, с которыми он весело покучивал в монмартрских кабачках, или слишком свободное обращение с подотчетными суммами торгпредства, – установить не удалось, но приобретенный в Париже шарм не покидал его даже на Соловках. Там Миша быстро устроился на какую-то легкую работу и разгуливал по монастырским дворам с тою же тростью, в том же шелковом кашне и надетой набекрень фетровой шляпе…
Эти, казалось бы, столь различные люди (что общего могло быть между бежавшим от шиберства тихим лириком Литвиным и нашедшим в том же шиберстве свою стихию Мишей?) слились на Соловках в тесный, дружный кружок.
Что их сближало и роднило?
Теперь, вглядываясь в минувшее, я улавливаю стимулы этого сближения. Один из них можно назвать бездомностью, неумением найти свое место в новых, еще не выкристаллизировавшихся формах изломанной жизни. Другой – поиск этого места, неразрывная с молодостью жажда самопроявления и самоутверждения. Первый рождался из необорванных связей с ушедшим. Второй – из стремления влиться в современное, в будущее, из того, чего не было у старшего поколения, целиком отмежевывавшегося и от настоящего, и от будущего перетряхнутой сверху донизу России. Сочетание этих двух противоречивых друг другу начал сближало их носителей между собой и одновременно отталкивало их от целиком ушедших в свое прошлое и полностью отвергавших настоящее, заброшенных на Соловки «бывших людей».
Этим группам соловецкой интеллигентной молодежи предстояло вовлечь сюда и другие сходные с ними по психике элементы и оформиться в том, что носило на Соловках имя «ХЛАМ».
Глава 4
«ХЛАМ»
Дело происходило зимним вечером 1924 года в «Индийской гробнице» – камере чистокровного индуса Набу-Корейши, где он иногда угощал нас после спектакля настоящим черным кофе с сахаром и печеньем – редкостным лакомством на Соловках. Корейша, сидевший на Соловках «за шпионаж», был представителем большой индийской фирмы, торговавшей джутом, и получал от нее крупные суммы в иностранной валюте. На руки ему этих денег не давали, но он мог закупать на них, что ему угодно и сколько ему угодно, в закрытом кооперативе НКВД. Это богатство давало ему не только освобождение от работ, но даже отдельную теплую и светлую келью. В ней-то, носившей у нас имя боевика экрана того времени – «Индийской гробницы», мы и обсуждали в тот вечер только что оконченный спектакль.
– Все это рутина, старье, заваль, – ораторствовал Миша Егоров, – нужно искать новых форм.
– Борин, что ли, на седьмом десятке лет жизни будет тебе их искать? – пренебрежительно бросил Глубоковский. – Таиров с Мейерхольдом пока еще не нашли и к нам сюда не доставили.
– Можно и без Таирова обойтись… самим… – изрек Миша.
– Кому это самим? Ты, что ли, поведешь к новым формам?
– Почему обязательно я? Сколько вас здесь: поэты, литераторы, артисты, музыканты… Создадим коллектив, организацию и начнем!
– А кто это разрешит тебе организацию?
– Разрешат, – уверенно заявил Миша, – Коган, безусловно, поддержит, Неверов под его дудку пляшет, а Васьков балда, что ему Коган подскажет по культурной части, то и будет. Берусь устроить! – заорал он.
Его практическая купеческая сметка не терпела отвлеченности и тотчас же отыскивала для нее реальные формы.
– Все хлопоты на себя беру! Ручаюсь! Сделаю!
Темперамент Миши хлестал из него бурным фонтаном и захватывал нас.
– А почему бы нет? Театр малых форм, но не по текстам «Синей блузы», а наш, соловецкий? – поддержал Егорова Акарский, деникинский офицер, в прошлом тоже близкий к московской богеме. – Литвин, Глубоковский, Ширяев подработают тексты, Глубоковский и Красовский – режиссура, а исполнителей всех видов актеров, певцов, танцоров и музыкантов – на Соловках хватит! Будет успех – новые к нам потянутся, да и «пополнения» с каждым пароходом прибывают… Дерзнем!
– А как окрестим это дело? Название очень важно: попадем в тон начальству – разрешат, промахнемся – могила и черный гроб.
– Организация пролетарских…
– К черту пролетарских!
– Цех…
– К дьяволам все цехи! Ты еще скажи худраб-сила! Идиот!
– ХЛАМ! – неожиданно выпалил нескладный, длинный, как жердь, и вечно попадающий в нелепые положения поэт Борис Емельянов, восхищавший шпану своим черным плащом-крылаткой, в котором он разгуливал по Соловкам и летом и зимой. – ХЛАМ, – уныло, но твердо повторил он.
– Ты что, окончательно сдурел? – уставился на него Мишка Егоров. – Мочевой пузырь в голову переместился?
– Ты дурак, а не я, – спокойно и так же уныло отозвался Емельянов, – художники, литераторы, актеры, музыканты; начальные буквы х, л, а, м. То есть ХЛАМ.
Все застыли, как в финале «Ревизора».
– В точку! – завопил первым Мишка. – Что надо! Под таким названием не артистическую, а контрреволюционную организацию можно у Васькова провести! Ее двусмысленность всем понравится! Кончено: ХЛАМ – и никаких гаек!
Так в «Индийской гробнице» Набу-Корейши, коммерческого представителя бомбейской фирмы, присужденного к Соловкам за «шпионаж», родился если не самый яркий, то, во всяком случае, самый искренний и откровенный сценический выразитель настроений тех сумбурных лет, когда обрывки ушедшего сплетались с неясными, тонкими нитями, ведущими к туманному, неясному будущему русской культуры. Он родился на Соловецкой каторге, потому что именно там в те годы было больше внутренней свободы, чем на материке, потому что там еще светилась бледным пламенем Неугасимая Лампада Духа. Только там, в охватившей Россию тьме безвременных лет.
Добиться разрешения на спектакль под маркой свободного ХЛАМа, а не воспитательно-просветительной части было довольно трудно, но удалось, как и рассчитывал Миша Егоров, при помощи сочувствовавшего всем новым начинаниям партийца-интеллигента Когана. Все работали дружно, дополняя один другого. Никаких «целей» не ставили и «программ» не составляли. Каждый участник ХЛАМа действовал свободно, задумывая, разрабатывая и осуществляя задуманное.
Когда программа первого вечера определилась достаточно ясно и литературные тексты были готовы, выяснилось, что удельный вес злободневной соловецкой тематики значительно превышал остальные разделы программы вечера и некоторые фразы звучали слишком смело. Кое-кто приуныл.
– Прихлопнет Васьков наш ХЛАМ еще до его рождения. Перехватили ребята. Надо потише, поосторожнее… – слышались голоса робких.
Но неробкие упорствовали:
– В этом-то и сила! Увидите, что как раз это понравится. Ведь им самим надоела агитационная жвачка. Только бы цензуру Васькова проскочить. Он по глупости может зарезать.
Начальник адмчасти Васьков был действительно редкостным болваном и тупицей, но, к счастью, для самого вообще, а для ХЛАМа в тот момент он сам от части сознавал свое тупоумие и маскировал его, чутко подбирая себе дельных помощников и перекладывая на них работу. По идеологической и пропагандной части он слепо вверялся умному, широко и глубоко эрудированному Когану и поэтому, не читая, подписал представленную им программу ХЛАМа.
Миша Егоров угадал и то, что соловчане разом, еще до появления ХЛАМа на сцене театра, отнесутся к нему сочувственно именно потому, что он был «свободным», формировался по инициативе и силами самих каторжан, а не воспитательно-просветительной части и был подчинен ей лишь формально, вследствие мягкотелости нач. ВПЧ, с одной стороны, и крепкой поддержки Д. Я. Когана – с другой.
К ХЛАМу потянулись уже выявившие себя сценические силы и новые, проявлявшиеся порой там, где их совсем нельзя было ожидать, например, уже в пожилой кавалерственной даме, жене командира одного из блестящих гвардейских полков, не имевшей ничего общего с ядром ХЛАМа – московской богемой. Эта генеральша Гольдгойер на шестом десятке лет обнаружила в себе яркие и своеобразные сценические способности. Вместе с нею вступили в ХЛАМ прекрасно танцевавшая столбовая дворянка-помещица Хомутова-Гамильтон, «леди», как звали ее на Соловках, и именитая московская купчиха, «чайница» Высоцкая. Они вполне ужились в атмосфере ХЛАМа и с молодежью, и с типичными профессиональными актерами, каким был, например, эстрадный куплетист еврей Жорж Леон.
Вся эта пестрая, разноликая, разнохарактерная толпа была спаяна и крепко связана общим цементом – тоской по отнятым у жизни красочности и звучности, стремлением к личному, свободному, поскольку это возможно, творчеству, и странно, что эту максимальную из возможных по тому времени свобод мы находили именно на каторжном острове, на свалке, казалось, разбитой вдребезги русской культуры. Но на всей остальной площади Советского Союза это было уже невозможно. Там рожденное революцией «сегодня» уже заполнило пустоту, образовавшуюся на месте отброшенного, попранного «вчера».
* * *
Наконец вечер первого спектакля ХЛАМа настал.
Первым номером шла инсценировка популярного тогда романса «Шумит ночной Марсель». Ее героем был апаш, а действие развертывалось под надрывные звуки танго в портовой таверне, «где негр-слуга смывает с пола кровь»…
Дешевая романтика темы была легко воспринята залом, и шпана дружно зааплодировала своему «героическому» западному собрату при первом его появлении.
Героя-апаша играл изящный белогвардеец Евреинов, артистически танцевавший танго – стержень действия пьесы, – а его партнершей, загадочной «в перчатках черных дамой» – обученная им этому танцу… свояченица командира охранявшего нас Соловецкого особого полка!
Трудно верится теперь таким воспоминаниям. Но эта очень красивая и, как оказалось, талантливая девушка стала потом ярой «хламисткой», засиживавшейся на репетициях до поздней ночи и разделявшей все горести и радости «хламистов»-каторжан, хотя сама она была свободной. Сам командир полка Петров не протестовал против ее общения с заключенными. Наоборот, он даже поощрял посещение ею ХЛАМа, где она воспринимала манеры и шарм от каторжанок-аристократок.
Другим появившимся вместе с ней на сцене ХЛАМа монстром был пожилой морской офицер, капитан 1-го ранга князь О-ский. Он, к сожалению, был абсолютно бесталанен, и лишь снисходя к его упорным, чуть не слезным мольбам, ему дали статическую роль того негра, который, по словам романса, «по утрам стирает с пола кровь» в портовом притоне. Князь вполне удовлетворился ею, густо вымазал сажей свое лицо и досаждал всем одним и тем же вопросом:
– Типичный готтентот, неправда ли? Характерное негритянское лицо! Я видел точь-в-точь таких же на Мадагаскаре… А?
Но вот занавес поднят. Ведущий певец под аккомпанемент гитар и мандолин струит в зал сладостно-тягучие строфы:
Шумит ночной Марсель.
В притоне «Трех бродяг»,
Там пьют матросы эль