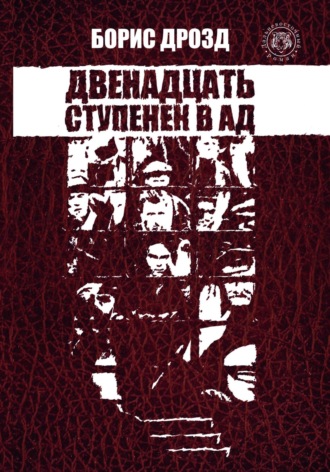
Двенадцать ступенек в ад
– Покушение на Сталина.
– Покушение на Кагановича, наркома железных дорог.
– Покушение на Гамарника.
– О масштабной вредительской деятельности в лесной отрасли, о срыве военного строительства.
– О связях подполья с японской разведкой ГОТО и ТАКАХАСИ и о передаче им секретных сведений. Руководил (будто бы) всем Кащеев, тот самый Кащеев, о котором у Дерибаса с Арнольдовым был разговор. Инженер, разумеется, сдался под пытками и угрозами и оговорил еще около 50 человек.
В Москву Дерибас со своим адъютантом прибыли 20 мая вечером и остановились в гостинице «Метрополь» в забронированных номерах. Дерибас оказался в Москве в разгар важнейших политических событий. Через два дня, 22 мая при личной встрече Ежов сообщил ему о том, что сотрудниками НКВД раскрыт заговор в рядах Красной армии среди самых высокопоставленных военнослужащих во всех округах страны, в том числе и среди военнослужащих ОКДВА. Пока он был в дороге, уже были арестованы начальник военной академии имени Фрунзе Корк , заместитель командующего войсками Московского военного округа Фельдман , вчера 21 числа арестовали командующего Белорусским военным округом Уборевича , а сегодня, «буквально только что», по словам Ежова, были арестованы заместитель наркома обороны маршал Тухачевский и председатель Центрального совета ОСОВИАХИМА Эйдеман . Еще прежде Дерибасу было известно об аресте командующего Уральским военным округом Гарькавого и его заместителя Василенко. Но Василенко и Гарькавый были арестованы еще в марте 1937 года, и этим арестам не придали особенного значения, так как некоторых высокопоставленных партийцев и военных «брали» за троцкистские взгляды, наверное, и Гарькавого и его заместителя «взяли» за троцкизм. Также не придали особого значения и повышенного внимания к еще прежде арестованным в августе 1936 года Путна и Примакова , которых в военных кругах связывали с троцкистами.
И еще одна новость была для Дерибаса ошеломляющей – был снят с поста начальника политуправления Красной армии Ян Гамарник, наезжавший в Дальневосточный край с двухмесячными инспекциями, тоже попавший под подозрение в заговоре?
Аресты в армии явилось для Дерибаса полнейшей неожиданностью. В армии раскрыт заговор? Тухачевский, Фельдман, Примаков, Гарькавый, Уборевич, Корк – военнослужащие высшего ранга, арестовываются также военнослужащие ОКДВА! А тут еще и сам Гамарник под подозрение попал. Значит, идут аресты и в других округах? Если это так, то выходит, что предполагаемый заговор охватил все округа по всей стране? Невероятно! А пока он ехал в Москву восемь дней, были арестованы дальневосточники: заместитель начальника по ВВС ОКДВА комкор Лапин , комендант Благовещенского укрепрайона комбриг Круглов , а также комендант Нижне-Амурского укрепрайона комбриг Кошелев . Но чему он чрезмерно удивился, так это аресту комбрига Кошелева, коменданта Николаевского-на-Амуре укрепрайона, того самого, уже легендарного человека, который за три дня на острове Удд построил из стройматериалов взлетно-посадочную полосу. На этот песчаный остров приземлился долго блуждавший в тумане самолет Чкалова с Байдуковым, совершивший рекордный перелет по дальности. Заблудились летчики, так сказать, облачность в этих местах очень низкая, почти до самой земли. Самолету нужно было возвращаться назад, в Москву, а с песка не взлететь. Этот Кошелев и сотоварищи славно и изобретательно потрудились, устраивая из пиленых стройматериалов взлетную полосу. Наградили его орденом Ленина, еще и года не прошло – и вот арест.
28 мая – новый, уже вполне ожидаемый арест, на сей раз арестовали командующего Киевским военным округом Якира .
Через несколько дней Ежов сообщил ему о том, что Сталин примет их 13 июня. Он также сообщил о том, что готовится суд над военными заговорщиками во главе с Тухачевским, обвиняемыми в военно-фашистском заговоре и в попытке свергнуть Советскую власть. Подготовка к суду шла полным ходом. Суд под названием «специальное судебное присутствие» должен состояться 11 июня. А на 25 июня было назначено расширенное заседание Военного совета при Наркомате обороны СССР, на которое были приглашены члены военного совета (на тот день их оказалось 63 человека, так как двадцать из них были арестованы). А также приглашен на это заседание командный состав Красной армии со всех регионов страны, военачальники второго ряда числом 116 человек.
Странно, думалось ему, почему срочно решили собрать военный совет, причем в расширенном составе? Незапланированный, не объявленный заранее, в спешке назначенный? Когда он уезжал из Хабаровска, никакого военного совета не намечалось, иначе это было бы ему известно. Что за срочность такая, с чем связана?
Вскоре он узнал о том, что заседание Военного совета переносится с 25 мая на первое июня. Зачем, почему?
Узнав от Ежова, что в Москву вызван на заседание военного совета также командующий войсками ОКДВА Блюхер , он решил позвонить ему, чтобы встретиться с Блюхером накануне заседания расширенного военного совета. Это было 31 мая.
Блюхер поселился в гостинице «Москва» в роскошном люксе. Узнав номер телефона, позвонил ему, несмотря на позднее время – было около десяти часов вечера. Трубку снял, вероятно, один из его адъютантов. Дерибас представился:
– Это Дерибас говорит. Кто у аппарата?
– Адъютант маршала дивизионный комиссар Семен Кладько, – ответил голос в трубке.
– А, Семен Николаевич, здравствуйте! Как Василий Константинович? В добром здравии?
– Н-не совсем, – ответил адъютант.
– Соедини меня с ним.
– Н-не могу. Он…это…так сказать…
– Что? Говори, не заикайся! Пьян, что ли?
– Чрезвычайно! Спит теперь.
– Что за повод такой?
– Сегодня застрелился Гамарник ! Совсем недавно сообщили!
– Да что ты говоришь! Вот так новость!
– Да, Терентий Дмитриевич! Мы приехали вчера под вечер, устроились хорошо, с нами приехал также товарищ Хаханьян . А сегодня мы с Василием Константиновичем поехали на квартиру к Гамарнику, а когда вернулись в гостиницу, через какое-то время, Василию Константиновичу сообщили, что Ян Борисович застрелился. Вчера был арестован его первый заместитель, сейчас не помню его армянскую фамилию , а также по приказу Ворошилова он выведен из состава военного совета и уволен из Красной армии, об этом он сообщил Блюхеру.
– Какое обоснование?
– Мне это неизвестно. Но это еще не все. Сегодня же из нашего штаба армии сообщили об аресте Фирсова и Аронштама , а буквально с час назад Василию Константиновичу сообщили о том, что в Кирове прямо на вокзале арестовали Сангурского .
– Прямо на вокзале? Что за прихоть такая?
– Прямо на вокзале, Терентий Дмитриевич! В Москву ехал на заседание Военного совета.
– Говорил ли Василий Константинович что-нибудь по поводу самоубийства Яна Борисовича? – спросил он Кладько.
– Нет, мне ничего не говорил. Наверное, Ян Борисович сообщил ему о том, что сам ждет ареста, а еще Василий Константинович жаловался на то, что решением Политбюро ему предписано быть одному из судей на каком-то судебном присутствии вместе с другими высшими военными в процессе над теми, кого обвиняют в заговоре. Я ждал Василия Константиновича в машине, он страшно матерился на это решение, когда вернулся от Гамарника. И вот, что вышло, Терентий Дмитриевич…
Дерибас положил трубку.
Новости были ошеломляющие. Гамарник, отстраненный от всех должностей, застрелился, в дальневосточной армии проходят аресты высокопоставленных военнослужащих, во всей армии идут аресты. Не коснется ли эта участь Блюхера, если учесть то, что подряд арестовываются командующие военными округами и их заместители? О чем у Блюхера с Гамарником был разговор? Наверное, об аресте его заместителя и о своем снятии со всех постов, и, скорее всего, о своем вероятном аресте тоже по подозрению в заговоре. Может быть, шел еще разговор и о скороспелом военном совете, на который почему-то были вызваны еще 116 человек военнослужащим второго ряда, не членов военного совета? Вероятно, Гамарник ждал ареста с часу на час и решил опередить приход служителей родного ведомства и дальнейшие последствия этого. А может, Блюхер тоже опасается ареста, если идут аресты командующих основными военными округами и об этом он мог говорить с Гамарником? Ничего не понятно, только голова идет кругом!
Ему вспомнился Гамарник, его строгое, даже суровое лицо с чрезвычайно печальными, какими-то нездешними глазами. Причина этой непреходящей скрытой и скрываемой печали вряд ли имела земное происхождение: его здоровье (у него был диабет), семейные нелады или непорядки на службе. Казалось, какая-то великая, неразрешимая дума, мысль томила его душу, как если бы он вобрал в себя всю вселенскую печаль, всю мировую скорбь. Он носил черную, окладистую бороду, был густоволос и среди высших военных и сановитых гражданских людей, причастных к власти имел любовно-уважительное прозвище «Борода». Лицо его не имело ни малейшего поползновения к мимике, словно бы было каменным, и, пожалуй, нельзя было назвать ни одного человека, который бы видел, чтобы Гамарник улыбнулся или рассмеялся, выразил бы каким-нибудь жестом или мимикой радость или неудовольствие, словно бы он в этом отношении дал себе какой-то обет, как дают себе обет молчания монахи. Быть может, эта печаль имела причиной несовершенство рода людского? Или разочарование в том деле, которому посвятил всю жизнь?
И вот этот человек застрелился. Совершенно невозможно было бы представить его в застенках Лубянки. Да и на процессе тоже. А уж тем более в хабаровской внутренней тюрьме.
Значит, маршал пьян, наверное, от слишком дурных новостей и чтобы «залить глаза» перед заседанием Военного совета и отогнать скверные мысли и чувство чего-то невероятного, неслыханного, которое вдруг надвинулось и надвигается на армию? Как же раньше, в Гражданскую все просто было! Там, на той стороне были враги – белые, офицерье, казачье, а теперь политика выползла наружу и всё и всех мутит. Кремль играет в политику, которую никто не понимает. Свои бьют своих, не врагов. Как они оказались во врагах? Троцкисты, зиновьевцы, (бухаринцев вот тоже взяли), правые, левые, всякие уклонисты, все раньше были свои и все как-то уживались вместе. А теперь только одна путаница. Сочувствовал Троцкому, Бухарину, Рыкову, Зиновьеву или еще кому-то из оппозиции – значит, смертельный враг. А как же им было не сочувствовать, если они были свои и грудью стояли за революцию? В немилость угодил Рыков, побывавший на Дальнем Востоке года два назад, а теперь, по слухам, стали брать за связь с ним. А ведь он был председателем совета народных комиссаров! Как же руководство Дальневосточного края могло быть не связано с ним, с человеком из Москвы, с начальником? Ерунда какая-то! Кто теперь что-нибудь понимает? Никто. И он Дерибас ничего не понимает. Один только Сталин со своей компанией что-то понимают и что-то затевают и опережают всех на шаг, два или более. Зачем?
1 июня в киоске в фойе гостиницы он купил свежий номер «Правды». Передовица и все почти полосы заполнены были материалами по теме освоения Арктики, репортажи, очерки не только о летчиках-папанинцах, но и другими материалами, посвященными освоению Арктики. На последней шестой полосе под разделом «Хроника» другим шрифтом было напечатано: «Бывший член ЦК ВКП (б) Я.Б.Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством».
Все дни с 1 по 4 июня Дерибас безвылазно сидел в гостинице, читал газеты и расшифрованные стенограммы военного совета, которые по его приказу доставлял ему из Управления на Лубянке посланный адъютант. Внимательно читал доклад Сталина и прения после него военных, стараясь уловить как направление замысла Сталина, так и настроение в армии.
Внимательно изучив доклад Сталина, Дерибас подивился тому, как все ловко подстроил вождь, связав недовольство в рядах военных Ворошиловым в военно-политический заговор против Советской власти, финансировавшийся германским фашизмом. На это был сделан упор. Сталин опирался в своем выступлении на «признательные показания» арестованных военных и перед своим выступлением раздал растиражированные «показания» Тухачевского, Корка, Фельдмана, Ефимова всем участникам военного совета – и его членам и приглашенным. Какова цена этим показаниям? – думал Дерибас. – Каждый чекист это знает. Никто против пыток не устоит. Почти никто, исключительно единицы. И другой метод, еще более зверский – запугивание. Он против этих стойких единиц, он пострашнее пыток. Арестованным по полочкам разложат те устрашающие репрессии, которые обрушатся на их семьи, матерей, отцов, братьев, сестер, родственников, жен, детей, ни в чем не повинных людей. Военным свои жизни не столь жаль, они всегда готовы умереть, а вот жены, дети, родственники? Разве сам он, Дерибас, случись ему быть на месте арестованного, не пожертвовал бы своей жизнью ради спасения семьи? Без всякого сомнения, пожертвовал. Все это уже давно опробовано еще со времен подавления антоновского восстания: взятие заложников из каждой деревни, села с требованием выдачи оружия и «бандитов». И если не выдают или отговариваются тем, что «не знают», «оружия не имеют», расстрел этой партии заложников на глазах у сельчан и взятие новых заложников с тем же требованием. Опробовано и во всех политических процессах против оппозиции с их «признательными показаниями» в шпионаже, вредительстве, заговоре и прочих грехах. Или «сознаешься так, как нам нужно, или всю семью, родственников «выкосим под корень». И бухаринцы, зиновьевцы, и троцкисты, на удивление не только своим гражданам, но и всему миру, «признавались». (Впрочем, это не спасало их семьи от жесточайших репрессий с расстрелами и посадками в лагеря).
Дерибасу было ясно и то, что подчеркивалась не только заговорщицкая деятельность арестованных, но «признательные показания» выбивались именно в направлении военно-политического заговора против Советской власти для ее свержения в сговоре с германской разведкой, то есть заговорщики обвинялись в шпионаже. (Он сразу отметил, что это было очень похоже на то, как связывал старший майор Арнольдов арест военного инженера Кащеева из ОКДВА с его «признательными показаниями» о заговоре в военно-строительном отделе ОКДВА со шпионажем в пользу Японии). Было очевидно, что центральный аппарат НКВД изощрился и «набил руку» в методах допросов и ведения следствия в точности с тем, какая поступает команда «сверху». Теперь ему было также совершенно очевидно, что они на Дальнем Востоке «отстали» от Москвы, от «передовых» методов работы московских следователей и оперативников, устарели в методах своей работы по выкорчевыванию «врагов народа». Вот почему «таежниками» называл его сотрудников Арнольдов в одном из разговорах с братом Семеном Кессельманом. Какую игру ведет сталинская верхушка и какой цели добивается? Главное, чем поразил Сталин военных, – так это «признательными показаниями» Тухачевского и компании не только в заговоре, но и в плане пораженческой деятельности заговорщиков в армии в будущей войне. Красная армия-де в войне с Германией должна была потерпеть поражение. Точно рассчитанный удар Сталина, ошеломивший армейскую верхушку, повергший ее в шок. Этого военные, конечно, не могли бы простить никому. И они проглотили эту версию, выстроенную следствием. И если кто-то еще из них сомневался в заговорщицкой деятельности арестованных и предательстве, то теперь никто не должен был усомниться.
Что Сталин сказал о Гамарнике? «У нас нет данных о том, что он сам информировал (немецкий генеральный штаб), но его друзья Уборевич, Якир, Тухачевский информировали немцев». И далее: « …Видите ли, если бы он был контрреволюционером от начала до конца, то он не поступил бы так (не застрелился бы. – Примечание автора), потому что я бы на его месте попросил бы сначала свидание со Сталиным, сначала бы уложил его, а потом бы убил себя. Так контрреволюционеры поступают».
Значит, по логике Сталина, размышлял Дерибас, Гамарник не контрреволюционер, а шпион, завербованный немецкой разведкой, «невольник рейхсвера», по его выражению? Какая логика! Как все он железно выстроил! Какой изощренный ум!
Внимательно Дерибас прочел то место, где Сталин говорил о Блюхере. В своем выступлении Сталин защищал Блюхера якобы от намерения Гамарника и Аронштама сместить Блюхера с поста командующего ОКДВА и поставить своего человека. Кого? Конечно же, Тухачевского. По мнению Сталина, Гамарник хотел убрать с Дальнего Востока Блюхера и вел против него «агитацию»? Но об этом, прежде всего, знал бы сам Блюхер. Об этом бы знал бы и он, Дерибас, ему бы немедленно доложили. Но лично он, Дерибас, не замечал ничего подобного вокруг Блюхера, и об этом ему не докладывали. Если бы это было не так, тогда зачем же Блюхер поехал бы на квартиру к Гамарнику сразу же после приезда в Москву на другой день, если бы они были недруги с Гамарником?
Для подтверждения своей мысли он стал искать в речах выступавших в прениях военных то, что скажет Блюхер о Гамарнике. И вот нашел: «…Все тут выходят и хотят обязательно найти у Гамарника что-нибудь контрреволюционное. Не выйдет это. Скажите прямо ЦК, скажите прямо Сталину (Сталина в этот момент не было в зале. – Примечание автора.), что в армии Гамарник пользовался авторитетом. Совершенно иное отношение было к Уборевичу…» (Дерибасу была известна неприязнь Блюхера к Уборевичу).
Сомнительно все это, думал он, сомнительно, чтобы Гамарник и Аронштам хотели сместить Блюхера с поста командующего ОКДВА. Защищая Блюхера от якобы нападок Гамарника и Аронштама, Сталин сделал какой-то важный ход. Но какой?
Что за этим последует? Что задумали Сталин и Ворошилов?
Еще большей неожиданностью для Дерибаса явилось то, что руководство решило распространить в войсках стенограмму работы четырех дней военного совета. Что бы это значило? А значило бы то, чтобы армия готова была к ударам против нее, к уже намеченным репрессиям. И спокойно, без содрогания к этому отнеслась. Как к необходимому и важному делу – к ее «чистке». Чтобы в армии не было паники. А как же в ней не может быть паники?
Значит, и с этой стороны прольется большая кровь. «Если так пойдет, а уже пошло, – думал он, – по всей стране пойдут заговоры искать. Если я не получу нового назначения и вдруг вернусь домой целехоньким, там я застану еще большую кучу заговоров и тысячи арестованных. И ничего и ничто уже не может это сдержать», думал он..
Все эти дни он получал из Дальневосточного края тревожные вести об арестах в армии, в НКВД и в погранвойсках – в его епархии. В ночь с 4 на 5 июня его разбудил телефонный звонок в номере. Звонил его заместитель Семен Кессельман (в Дальневосточном крае день был уже в разгаре):
– Терентий Дмитриевич, Крутов арестован, – хриплым, взволнованным голосом сообщил он.
– Кто дал санкцию?
– Балицкий.
– Какое основание для ареста?
– Арнольдов с Мироновым показывали мне материалы оперативной работы и протокол допроса Крутова . Там какие-то зацепки есть. И Шкирятов надавливал, мол, из Москвы пришли сведения на него от арестованных заговорщиков из группы Тухачевского.
– Есть зацепки?
– Для следствия есть.
– Кто будет вести следствие?
– Пока неизвестно, но скорее всего, Арнольдов.
7 июня он узнал о том, что по армии готовится распространение приказ НКО СССР №072 «Обращение к армии по поводу раскрытия НКВД предательской контрреволюционной военно-фашистской организации». А следом за ним готовился совместный приказ наркомата обороны и НКВД, подписанные Ворошиловым и Ежовым за №082 «Об освобождении от ответственности военнослужащих, участников контрреволюционных, вредительских, фашистских организаций, раскаивавшихся в своих преступлениях».
Раскаявшиеся должны были «сдать» всех, кого знали как участников заговора, рассказать все без утайки и быть прощены, не преследоваться.
Этому обращению вряд ли кто-либо из военных поверит. Маловероятно, что найдутся желающие сдаться и все рассказать, даже если они и были как-то связаны с арестованными, – думал дальше Дерибас. – После этого армию охватит смятение, настоящая паника. Такую армию сейчас бери голыми руками, она уже деморализована.
На 11 июня был назначен суд над группой Тухачевского из восьми человек, участников заговора против Советской власти, к которым должен быть причислен и Гамарник. Зачем Сталин устроил этот процесс-судилище? – думал дальше Дерибас. – Вопросы, одни лишь вопросы. Сначала, судя по стенограммам военного совета, он стравил военных, посмеялся над их «покаянными» речами в прениях по его докладу об их поголовной недостаточной большевистской бдительности, о политической слепоте, а теперь, благодаря «признательным показаниям» арестованных, они вдруг прозрели. А зачем теперь Сталин заставляет высшее военное руководство страны присутствовать на суде их товарищей, которых Сталин выставил в позорном, предательском виде? Ответ был ясен: они будут только присутствующие, не свидетели, не обвинители и не обвиняемые, просто «присутствующие». Это ничто иное, как устрашение, политика. Кто ее вовремя не разгадает, тот не уцелеет, думалось ему. Но даже кто и разгадает, не факт, что уцелеет.
11 июня ожидаемо состоялось закрытое «судебное присутствие». Процесс без свидетелей, без защиты и обжалования, основанный только на «признательных показаниях». И ожидаемо все были приговорены к расстрелу. Дерибас на другой день даже номер «Правды» не стал покупать в киоске. И решил не звонить Блюхеру и не искать с ним встречи. Со дня ареста главных фигурантов дела – Тухачевского, Уборевича и Якира и других – до казни прошло лишь 15-20 дней. Что за спешка такая? Процесс поспешный, закрытый, значит, время открытых политических процессов уже миновало, наступило время закрытых процессов и судов, а за ним уже маячит время…какое-то другое время. Какое? «Время сплошь бессудных дел, то есть с формальным судопроизводством, под сурдинку будет все решаться за десять-пятнадцать минут, как теперь у нас в «тройках», – думалось ему.
VI НА ПРИЕМЕ У СТАЛИНА
13 июня во второй половине дня Дерибас с Ежовым сидели в приемной Сталина. В приемной никого не было, кроме его личного секретаря Поскребышева.
– Сейчас я доложу о вас, – проговорил Поскребышев, укладывая в большой шкаф какие-то папки.
– У него еще кто-нибудь есть? – спросил Дерибас, кивком головы показывая на дверь в кабинет.
– Только товарищ Молотов.
Сидя в приемной, Дерибас присматривался по своей привычке разглядывать людей к Поскребышеву, лысому человечку с совершенно стертым лицом. По внешнему виду – кладовщик или заведующий баней. Но было известно Дерибасу, что это непростой и очень влиятельный человек в окружении Сталина, почти незаменимый.
Поскребышев, поднявшись из-за стола, одернул форменную гимнастерку, по-военному засунув пальцы под ремень, убрал складки за спину, и отправился в кабинет докладывать, закрыл за собой дверь.
– Первый раз у Него? – благоговейным шепотом спросил Ежов, чуть расширяя веки и приподнимая брови.
– Да, не приходилось здесь бывать, – ответил Дерибас.
– Не робейте, не такой уж он и страшный! – тем же благоговейным шепотом подбодрил его Ежов. – А я уже не раз бывал у него, бывал! – скороговоркой произнес он с нескрываемой гордостью к своему возвышению и приближению к высшей власти, как если бы он тут был уже почти своим человеком.
Дерибас со своей проницательностью отметил, до какой же степени его новый начальник тщеславен и самолюбив. Неужели он такой наивный и самовлюбленный слепец, что не понимает, как это опасно?
Сидели с минуту в ожидании. Ежов – щупленький, узкоплечий, какой-то, казалось, невесомый, в новеньком мундире со значками наград и отличий по службе, поскрипывающий при всяком движении тела новенькими ремнями, с аккуратно и заботливо уложенными волосами на голове по пробору с левой стороны – казался Дерибасу каким-то игрушечным человечком. И Дерибас был уверен в том, что по утрам, бреясь и глядя в зеркало, он любовался собой, своим красивым, чернобровым лицом, напевая какую-нибудь арию из оперы.
Дверь открылась, и на пороге появился Поскребышев.
– Товарищ Сталин ждет вас, – произнес он, посторонившись, чтобы пропустить их в кабинет, но не выпуская из левой руки ручку двери.
Ежов мигом вскочил, как-то выдохнул, словно бы набираясь твердости для разговора со Сталиным, и пошел к дверям. Дерибас последовал за ним, наблюдательно отмечая про себя, что затянутый поясным ремнем едва ли не до «осиной» талии, Ежов сзади и ростом и статью был похож на подростка-гимназиста, которого неизвестно почему по-бутафорски вдруг нарядили в форму грозного ведомства.
В кабинете за длинным столом под зеленым сукном с многочисленными стульями сидел в одиночестве Молотов, который молча кивнул им в ответ на приветствие. У председателя Совнаркома была массивная голова и плоское, какое-то отвесное лицо, что резко бросалось в глаза, если глядеть на него в профиль (а он сидел боком к ним). Высокий лоб, нависающий над остальной частью его лица, был отличительной чертой его наружности. На носу умещались небольшие очки в тонкой оправе, казавшиеся крошечными на большой голове вдобавок к небольшим аккуратным усикам.


