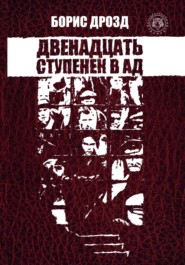По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Долгая дорога к дому
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Никитин, Сашка, и ты здесь?
Никитин обернулся. Перед ним стоял Борис Лоншаков, старый знакомец еще по тем временам, когда они пели вместе в самодеятельном заводском русском народном хоре.
Они крепко пожали друг другу руки.
– Ты как здесь оказался? – спросил Борис.
– Да так вот, шарахаюсь по разным конторам в поисках работы.
– И ты тоже? Разве тебя тоже сократили?
– Как видишь. Уже почти три года обретаюсь на бирже.
– Ты с разнарядки? – спросил Борис.
– Нет, сегодня не взял разнарядку, ходил с бумагой по конторам. Да и толку с этих разнарядок, деньги, сам видишь, не спешат выдавать.
– Ну и как, повезло с работой?
– Ничего не вышло. Везде одни отказы.
– Да, видно, мы свое уже отжили, отработали…
– Не стойте, денег сегодня не будет, – сказала проходившая мимо женщина с ворохом бумаг в руках.
– А ведь выдавали сегодня, я знаю, что выдавали! – выкрикнул женский голос из очереди.
– Это старые долги заплатили, еще за прошлый год, – отвечала она.
– А мы что, мы-то что? Третий месяц не платят несчастные гроши!
– Мы как будто не люди!
Очередь загудела, недовольно зароптала, но не бойко, а как-то вяло; никто никакой инициативы и активных действий не проявил. Каждый из ожидавших людей принял эту новость с привычным обреченным смирением и спокойствием, с внутренней готовностью к каким-нибудь другим дальнейшим шагам для выживания. Привычка к отказам, к тому, что заработанные деньги возвратятся лишь через два-три месяца, а то и через полгода, а то и вовсе не вернутся, была существенной чертой бытия. При этом новом режиме родилось и укрепилось новое состояние – нет зарплаты. Ее нет сегодня, завтра, через три месяца, через полгода, ее вообще может не быть, словно бы заработанные деньги куда-то испарялись, но и к этому привыкли русские люди. Обман ли это был, умышленность какая-нибудь, или, в самом деле, неоспоримые финансовые трудности у городских или центральных властей – людей уже в принципе не волновало. На деньги как бы уже и не надеялись, на справедливость тоже. Постояли, поворчали, ушли в себя со своим недовольством, глухим ропотом и молча разошлись. Где-нибудь в других краях уже давно бы снесли к черту эту власть, по крайней мере, не давали бы ей покоя, но в России этот порог терпения и молчаливой безропотности, безгласой покорности, вероятно, ещё не был пройден. Быть может, не будет пройден никогда.
Они вышли с Борисом с биржи и, делясь новостями, медленно двинулись по проспекту Мира к автобусной остановке. Борис хромал на правую ногу и опирался на тросточку. Некогда черные смолистые кудри Бориса – гроза женщин в прошлом – больше чем наполовину поседели и поредели. Никитин, не видевший его лет семь-восемь, отметил это с болью и сожалением.
– Почти два года по больницам да по больницам шатаюсь, – рассказывал о себе Борис. – Операция была неудачной, нерв повредили какой-то, теперь, вот видишь, с палкой костыляю…
Борис Лоншаков когда-то был местной знаменитостью, солистом любительского оперного театра, а потом любительского русского народного хора, имел красивый, сочный баритон. Пел он смолоду, и ему пророчили большое будущее, звали во многие профессиональные хоры страны, но он не решился никуда поехать, не осмелился поступать в консерваторию или в институт искусств, – так и остался в провинции, работал инженером на судостроительном заводе. Он был лет на пять старше Никитина, уволен был с завода ещё с первой волной сокращаемых, уже как видно приспособился, притерпелся и научился выживать. Впрочем, дети у него были уже взрослые, старше дочерей Никитина.
– Полтора года до пенсии осталось, как-нибудь дотяну, – продолжал Борис.
– Пенсия – несчастных пятьсот рублей, меньше двадцати долларов. Разве на нее проживешь? – сетовал Никитин.
– А куда деваться? Деваться-то некуда… Нам с женой много ли двоим надо? – отвечал на это Борис.
– Где-нибудь в концертах участвуешь? – поинтересовался Никитин.
– Какое там! – отмахнулся Борис. – Какие сейчас концерты? Мы с тобой свое уже отпели!
«Ну, ты-то, может, уже и отпел, а я еще нет, – подумал Никитин. – Нет, я еще повоюю с жизнью, я еще свое спою!»
– Пойдем бутылку, что ли, возьмем, встречу отметим, – предложил Борис.
– Какую бутылку, на что? – удивился Никитин.
– У меня заначка, я угощаю.
Никитин не прочь был выпить, но не хотелось пить с Борисом, и он отказался под тем предлогом, что ему срочно нужно домой. Он почувствовал, что общение с Борисом, который был обреченно настроен, наведет на него тоску. За эти три года, что толкался он на бирже и по разным конторам в поисках работы он повстречал сотни таких, как Борис, и как сам он, Никитин. Это был особый слой людей, ставших в короткое время ненужными большею частью из-за своего возраста или из-за потери квалификации, или ненужности уже самой профессии, канувшей в небытие. Они годами обивали пороги биржи. От постоянного хождения, от безделья, от этого ощущения ненужности во всем их облике было что-то обреченное, сломленное, как теперь в нем, в Никитине. В таких лицах, где бы они ему ни попадались, сразу прочитывалась вся безнадежность и отчаяние их настоящего положения. У них была только одна надежда: как бы дотянуть до пенсии, пусть нищенской, но все же стабильной пенсии. Никитин пугался таких лиц, сторонился таких людей, не заговаривал с ними, – он был суеверен, ему казалось, что этот дух безнадежности и отчаяния к своему положению заражает людей, как вирус, и передастся и ему.
Они попрощались, Борис остался ждать автобуса на остановке, а Никитин двинулся по проспекту Мира в сторону площади Металлургов. Шагая, Никитин выгреб всю мелочь из кармана, пересчитал ее. Такого махрового безденежья у него не было уже давно…в сущности, не было никогда до такого отчаяния, чтобы он вот так пересчитывал копейки. Что он скажет своей младшей дочери Полине? Ведь он сегодня обещал ей купить куриных окорочков, булочек с маком и чего-нибудь сладкого. Ничего не выйдет. И как назло, еще «жигуленок» совсем забарахлил, страшно в такую погоду выезжать для заработка таксистом, вообще машину угробишь.
Он рассудил так: если до дома дойти пешком, а это час ходьбы в другой район города, или проехать зайцем, то можно купить пару булочек с маком, а назавтра остаться без денег на проезд, а значит, и завтра ему придется идти пешком на «разнарядку. И надеяться на то, что завтра откуда-нибудь свалятся на него деньги.
Побродив по улицам, он купил две булочки с маком для Полины, положил их в пакет и решил ехать домой зайцем. Ему стыдно было перед дочерью не сдержать своего обещания.
Он уже научился ездить зайцем в трамваях и автобусах. Надо было садиться на тех остановках, где много людей, с толпой войти в трамвай, юркнуть на сидение или забиться в дальний угол и сразу же отвернуться к окну. И замереть, как будто ты уже давно едешь. И это очень часто срабатывало.
III
Когда он вернулся в свой домик в поселке из разряда частного сектора, расположенного между двумя районами городами, дома была одна жена, детей не было. Жена лежала на диване, вытянув руки вдоль тела, и безжизненно глядела в потолок. Лицо у нее было мертвенное, вид крайне измученный. Еще не высохшие слезы говорили о том, что она недавно плакала.
– Где дети? – спросил он.
– Алена повела Полину к врачу, я пришла домой, и у меня уже не было сил двигаться, я еле-еле разделась.
Никитин понимал ее. Жена значилась фельдшером в поликлинике, работая до прошлого года как участковый врач. Но с некоторых пор фельдшерам запретили занимать должности врачей и ее перевели участковой медсестрой. Работа была собачья, сплошная беготня по подъездам, по лестницам многоэтажек, с неработающими лифтами, с хамовитыми жильцами, а зарплата у медсестер – сущие гроши, которые притом не выплачивались по три-четыре месяца. Во всем обвиняли страховую медицину. Контора-де была в Москве, а до нее не добраться. Ясное дело, говорили, что в Москве дельцы, сосредоточив их зарплатные деньги, прокручивали их по нескольку месяцев, случалось, даже по полгода, или держали их на депозите…
Она с усилием поднялась, села, свесив ноги на пол, казалось, с трудом перевела дыхание и вдруг заговорила повышенным тоном, близким к истерике:
– Я уже больше не могу! Это так ужасно! Это один сплошной ужас!
– Что ужасно? – спросил он.
– Неужели ты не видишь весь ужас нашей жизни? – тем же тоном продолжала жена. – Ужасно и унизительно стоять в очереди за грошовыми субсидиями! Ужасно не получать зарплату по три месяца! В школу, в детский сад придешь – там на тебя смотрят как на последнюю нищенку, потому что у твоего ребенка нет денег на обед, нет денег на всякие мероприятия, которые устраиваются в детсаду или в школе! Приходиться унижаться, без конца занимать денег, стоять в кошмарной очереди за этими жалкими подачками! Ты знаешь, сколько мы уже позанимали? Ты хотя бы это знаешь?
– Ты думаешь, если без конца причитать да вздыхать, то станет легче? – отвечал жене Никитин. – Я делаю все, что могу, что в моих силах. Что я могу изменить? Нам… всем нам, обездоленным в одночасье, только и остается, что взять в руки топоры и вилы и пойти войной на власть, и, либо сдохнуть, либо снести к черту этот каннибальский режим!
– У тебя еще хватает сил философствовать! – вскричала жена. – А я? О, как я несчастна! Как же я несчастна!
Она заплакала навзрыд, закрыв лицо ладонями.
– Успокойся, Наташ… Не одни мы такие, почти все так живут, вся страна, – сказал Никитин. – Переживем это время, все наладится…
– Я так не могу! Я уже не могу так жить, я живу из последних сил! – говорила она сквозь рыдания, отняв ладони от лица. – У меня уже нет больше сил смотреть голодным детям в глаза! Делай же что-нибудь… слышишь ты? Ты мужчина, изволь обеспечить детей хотя бы продуктами! Иди хоть милостыню проси, хоть воруй, а обеспечь детей продуктами! Ты принес сегодня чего-нибудь?
– Нет, нам ничего не дали и работу пока не нашел.