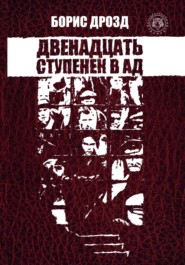По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Долгая дорога к дому
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– К тебе?
– Нет, ко мне нельзя. К тебе, я так полагаю, тоже нельзя, – добавила она с иронией. – Подружка моя уехала работать по контракту, ключи мне оставила.
– А товар?
– Отвезем ко мне домой, и поедем отмечать наше новоселье.
– Значит, у нас сегодня праздник?
– Вроде того…
После того, как отвезли товар домой к Кате, приехали во двор трехэтажного дома сталинской планировки вблизи заводского парка. Катя открыла двери ключом, который достала из сумочки, вошли в квартиру, разделись…
Квартирка оказалась однокомнатной с высокими потолками, с просторной комнатой и кухней, расположенных «трамваем», так что одно окно выходило на улицу, а другое – во двор. Она была уютная, обжитая, неплохо меблированная. Главным недостатком в ней был холодильник, который грохотал, как работающий трактор. А когда он умолкал, наступала блаженная тишина, как в горах после обвального камнепада. А главной ее достопримечательностью были двойные массивные двери с двумя створками, одна из которых запиралась на длинный железный крючок. Наверное, за такими дверями не страшно было отсиживаться в дни самых кровавых смут, чувствуя себя в полнейшей безопасности. Ни пробить, ни выломать, ни снести такие двери было невозможно. Чувствовалась забота прежней власти не только о том, чтобы жильцы чувствовали себя, согласно поговорке «дом мой – крепость моя», но и о том, чтобы жильцам было удобно перемещать мебель из квартиры на лестницу или обратно. Не то, что квартиры в домах последних пятилеток, двери в которых можно было выдавить пальцем, а протащить через них заурядный шифоньер – математическая задача со многими неизвестными…
…И с этого времени, как появилась эта квартирка в их жизни, их отношения круто изменились.
В первое время их связь обходилась без сердечных осложнений и душевных тревог. Никитин полюбил Катю глубоко и сильно, и, должно быть, этим своим чувством увлек Катю, и она отдалась своему чувству без оглядки, без страха за будущее, за завтрашний день, без этих мучительных мыслей о том, что он женат, что где-то там, в другом доме или в квартире, ходит какая-то другая женщина, с которой он связан, и у них есть общие дети. Через месяц после того, как стали они здесь встречаться, Катя совсем оставила свой дом и всю свою заботу и жажду уюта, всю свою ещё не растраченную жажду семейного счастья вкладывала в эту квартирку, из которой их в любое время могла изгнать вернувшаяся квартирная хозяйка, ее подруга. Но об этом не думали ни она, ни он. В квартире появились цветы в горшочках на подоконниках и развешенные в кашпо по стенам, скатерти, салфетки, шторки в дверных проемах и много других мелочей, заботливо подобранных и умело, со вкусом внедренных Катей в их быт.
А главное, она впоследствии стала здесь держать свой товар, который уже не отвозили в квартиру, где жили муж и дети, а складывали его здесь, и отсюда же увозили его на рынок. Или в те дни, когда Никитин дежурил на своей автостоянке и не мог ей помочь, она вызывала такси и уносила свои баулы на руках, волоком тащила их по лестничным маршам, а потом по дворовому асфальту, до автомобиля.
Если бы не эта квартирка, может, и не родилось бы этой привязанности, не завязались бы эти с каждым днем крепчающие любовные узы. Перебравшись из своей квартиры сюда, Катя не просто оставалась здесь ночевать, она стала здесь жить, перенесла из дома необходимые вещи, одежду, часть посуды, обосновавшись здесь основательно. А Никитину приходилось неизбежно возвращаться домой. Вот так и появилось в жизни Никитина два дома, – тот, где жила его семья, и тот, где свила гнёздышко Катя, где проживали они свои безумные, жаркие ночи.
Когда Никитин оставался у Кати в этой квартире допоздна, а то даже ночевать, Катя водила его темными вечерами в пустой, неосвещенный фонарями, безлюдный парк, где они вспугивали иной раз одиноких прохожих, возвращающихся через парк с заводской вечерней смены. Катя для таких прогулок надевала свои испытанные валенки и пуховик, а Никитину вместо ботинок нашлись в квартире на антресолях старые безразмерные валенки, в самый раз для таких прогулок. Они расхаживали по пустым, заснеженным аллеям, вдыхая чистый морозный воздух, вслушиваясь в тишину, в похрустывание снега под ногами. И в этом их хождении по темному безлюдному парку было что-то романтическое. Катю привлекала тишина, безлюдность, таинственность молчаливых аллей из старых, высоких деревьев… Заводской парк был первородный, не посаженный людьми. В далекие времена, в тридцатые годы, руководители города, выделив этот участок тайги под парк, позаботились затем только о его благоустройстве, и со временем парк в поселке стал любимым местом отдыха заводчан. И березы и осины и кое-где тополи были куда как старше города, который справил в прошлом году свой шестидесятипятилетний юбилей. Катя вставала у какой-нибудь осины или у берёзы, обхватывала ее руками, прижималась к ней и говорила:
– Знающие люди говорят, что деревья отдают свою энергетику тому, кто вот так рядом с ними в обнимку постоит, а то ещё здоровья у них попросит… Я это на себе чувствовала. Вот так постою-постою с осиной рядом и домой вернусь уже с другими мыслями и настроением.
Никитин, лишенный этой поэтической или мистической стороны натуры, только улыбался и говорил в ответ с легкой иронией:
– И давно ты это практикуешь?
– Это моё с самого детства. Я же деревенская, в глухомани жила, можно сказать, в тайге выросла. Я люблю лес, люблю тишину, лет с трех одна в тайгу ходила, ничего не боялась, по нескольку часов гуляла…В тайге я ориентируюсь не хуже, чем в городе. Мне кажется, я бы и с дикими животными подружилась, они бы меня не тронули.
– Я в этом не сомневаюсь. Но как же тебя родители отпускали одну?
– А я их не спрашивала. Мать бы узнала – прибила бы. Меня почему-то всегда тянуло в тайгу, к деревьям, а почему – не знаю. И мне всегда одной хотелось гулять среди деревьев.
– А я тебе тут не мешаю? – слегка иронизировал Никитин.
– Нет, что ты! Так хорошо, что ты теперь в моей жизни появился, а то у меня осталась одна бытовуха, никакой отрады – рынок, дом с моими горе-домочадцами, поездки, выматывающие до изнеможения. Мне, Саш, природы очень не хватает, а выбраться некогда. Да и не с кем, хотя бы для компании.
– Ничего, до тепла доживем, будет тебе природа. Катерок мой заведем, и махнем на острова, с ночевкой, с костерком, с рыбалочкой! Там ты душу отведёшь! – заверял ее Никитин. – А по весне будем на моей «жиге» на шашлыки в лес ездить.
– Ой, какие у нас хорошие планы на будущее! Иди сюда, ко мне, Саш, давай вот так вместе постоим.
Никитин сходил с аллеи, шел по снегу к дереву, где стояла Катя, и первым делом целовал ее, прислонив к дереву. Она запрокидывала голову, и он видел, что даже в темноте сияют ее глаза.
– Кать, какие же у тебя глаза! Они даже в темноте светятся! Нет, это не глаза, а точно фонари какие-то, честное слово! – восхищался ею Никитин.
– Значит, я счастливая, и мне хорошо.
Озябнув, возвращались в свою квартирку и с удовольствием пили чай с вареньем. А потом начинали петь. Совместное пение вошло в их жизнь как бы случайно, когда сломался телевизор, и возникшую паузу нечем было заполнить. И Катя вдруг предложила:
– Саш, давай споем что-нибудь?
– С удовольствием! А аккомпанемент где возьмем?
– Зачем? Мы акапельно споём.
– А что будем петь?
– Что-нибудь русское, хоровое, чтобы за душу взяло…
Никитин знал немало песен, и не только тех, которые пели в хоре. Но Катя знала их намного больше. И если начинал он ту песню, которая ложилась на его сердце, она подстраивалась под него, и они пели либо в терцию, – тогда она пела альтовую партию, – либо на два голоса, и Катя находила вариант, чтобы спеть сопрановую партию. В первый день их совместного пения он начал своим баритоном одну из своих любимых песен:
– Что стоишь качаясь
Тонкая рябина…—
Но она его перебила.
– Нет, Саша, эту песню начинает женщина, это она страдает, жалуется на своё одиночество, а уже потом мужские голоса здесь вступают, и то лишь вначале фоном. Давай, я начну, а ты встраивайся…
Что-о стои-шь, кача-а-ясь,
То-о-нкая-а ряби-и-на-а,
Го-оло-во-ой склоня-я-а-сь,
До-о са-а-мо-о-го тына-а.
Тут она сделала ему знак кивком головы, чтобы он вступил в песню повтором последних строчек, и Никитин подхватывал:
Головой склоняясь
До самого тына.
В другой раз уже он начинал песню про страдания молодца, чье сердечко стонало без милой, которого извела кручина:
То-о не ве-е-тер ве-е -тку кло-о-нит
Не-е дубра-а-вушка-а шуми-и-т,
Катя подхватывала две последние строчки:
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит…