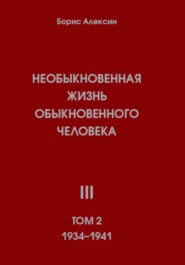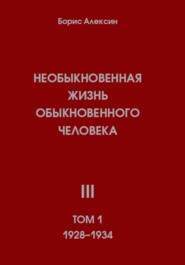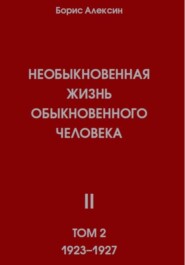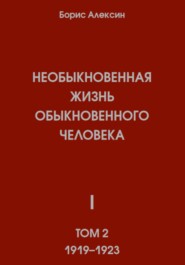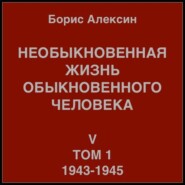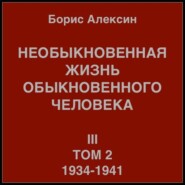По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Спустившись вниз сажени на две, они очутились в большом бетонном сарае с нарами по стенам. Это, как рассказал один из наиболее опытных исследователей, была казарма, где жили обслуживающие пушку солдаты. С другой стороны колодца, по которому спускались ребята, находился большой бетонный склад, этажом ниже – такой же склад боеприпасов и ещё ниже – несколько ходов, идущих в разные стороны. На полу каждого из этих ходов была проложена узкоколейная железная дорога, тут же стояло и несколько пустых вагонеток.
Тот парень, который взял на себя обязанности гида и который бывал на Сапёрной уже не один раз, в отличие от своих товарищей (многие из которых, как и Боря с Женей, были здесь впервые), объяснил, что некоторые из этих ходов связывали форт с соседними, разрушенными японцами, а один вёл прямо на железнодорожную станцию Первая речка, находящуюся на окраине города, пo ней и доставлялись снаряды с железной дороги. Этот же парень заблаговременно запасся несколькими свечками, при свете которых его спутники и осматривали все эти довольно-таки грандиозные сооружения.
Борису и Жене путешествие доставило огромное удовольствие, и они, вернувшись, решили, что в армии будут служить только в крепостной артиллерии.
В это лето Борис стал свидетелем и ещё двух запомнившихся ему надолго событий.
Однажды Яков Матвеевич после получки показал в семье новые деньги, которыми ему выплатили жалование. Это были советские деньги, выпущенные в 1924 году, получившие название «червонцы». Такие банковые билеты начали выпускаться правительством СССР ещё с 1922 года, но практически на Дальнем Востоке появились в обращении спустя два года. Они обеспечивались золотом республики и явились первой после революции устойчивой валютой. Один червонец стоил 10 рублей золотом. Он представлял собой купюру размером примерно в половину тетрадного листа белого цвета из плотной бумаги с водяным знаком, изображавшим крестьянина, сеявшего зерно из лукошка; такое же изображение, только более мелкого размера, имелось на левой стороне купюры, напечатанное тёмно-серой краской, рядом с ней была надпись «Червонец», далее цифра 1, а внизу подписи и печать. Были купюры достоинством в 2, З, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Правда, Борису купюр более 10 червонцев видеть не приходилось.
Одновременно с введением этих новых денег в обращении на Дальнем Востоке продолжали ходить и японские иены, и серебряные деньги царской чеканки рублёвого достоинства, и так называемое мелкое серебро.
Интересен курс всех этих денег, причинявший немало хлопот и продавцам, и покупателям. За 1 червонец давали: 12 иен и 50 сен; 11 банковских, то есть серебряных рублей, или 32 рубля мелким серебром. Такое неустойчивое соотношение всех ходивших на Дальнем Востоке денег создавало немалые трудности при расчётах.
Первое время новые деньги китайские лавочники, а за ними и крестьяне, брать боялись, считая, что они могут упасть в цене, как и прежние советские деньги. Но вскоре, убедившись в том, что червонцы охотно берут за границей, стали их тоже принимать, и даже охотнее, чем японские иены.
Второй декрет, введённый для РСФСР ещё 14 сентября 1918 года и дошедший, как обязательный, до Дальнего Востока только к концу 1924 года и окончательно узаконенный для СССР 21 июля 1925 года, – о метрической системе мер, привёл в полное недоумение и растерянность не только частных лавочников и торговцев кооперативных магазинов, но и большинство покупателей. Слишком крепко въелись в обиход старые меры длины и веса, применявшиеся в царской России.
Несмотря на то, что в большинстве европейских стран уже давно господствовала метрическая система мер (консервативной в этом отношении оставалась ещё долгое время только Англия), и на то, что, по учебникам, почти все, и уж, во всяком случае, люди, имевшие среднее образование, о ней знали, введение её в обиход первое время многих затрудняло. Часто покупая килограмм чего-нибудь, невольно и покупатель, и продавец рассчитывали, сколько это будет в фунтах; точно также было и с мерами длины: 5 километров – а сколько же это будет вёрст, или 3 метра ситца – а сколько это аршин? Конечно, не обошлось и без многих курьёзных случаев.
Я прошу прощения у своих читателей, но уверен, что очень многие из них, явившихся на свет гораздо позднее этого декрета, и понятия не имеют о тех мерах, которые существовали до этого, и которые нам в школах приходилось с таким трудом заучивать. Я хочу их привести. Кому это покажется неинтересным, пропустите эти строчки.
Меры длины:
1 аршин = 16 вершков = 71 см
3 аршина = 1 сажень = 2 м 13см = 7 футов
1 фут = 12 дюймов = 30,2 см
1 дюйм = 12 линий = 2,75 см
1 верста = 500 саженей = 1 км 65 м
Меры веса:
1 фунт = 32 лота = 96 золотников = 409 г
1 пуд = 40 фунтов = 16 кг
Меры объёма:
1 ведро = 4 четверти = 16 бутылок = 8 л
Меры площади:
1 десятина = 1000 квадр. саженей = 1,2 га
Я позволил себе привести только те меры, с которыми в основном пришлось иметь дело нашему герою в будущей работе.
Глава восьмая
Первого сентября начались занятия на курсах десятников по лесозаготовкам. Курсантам предстояло ознакомиться (мы не берёмся сказать изучить, потому что за такой короткий срок, который отводился этим курсам, по-настоящему ничего изучить было нельзя) со множеством предметов, большинство из которых для всех, или почти для всех, были совершенно незнакомы.
Основным из них, касающимся лесоводства, лесоразработки и лесообработки руководил сам заведующий курсами, профессор Василевский. Этот невысокий приветливый старик, влюблённый в своё дело, обладал отличными педагогическими способностями и своими лекциями сумел заинтересовать всех слушателей, а таких увлекающихся юнцов, каким был Борис, просто покорить. Парень слушал преподавателя, открыв рот, и вечером мог пересказать услышанное утром почти слово в слово.
Практические занятия по этому предмету вёл один из ассистентов Василевского, тоже отлично знавший своё дело и показывавший на практике приёмы лесоповала, для чего группа выезжала на станцию Седанка, где в то время по сопкам стояла густая тайга с многовековыми кедрами и пихтами. Он показывал, как надо правильно подпилить и подрубать дерево, чтобы оно упало в точно заданном направлении, это в условиях гористой местности Приморья было немаловажно. Кроме того, он научил ребят распознавать по срезам и по доскам разнообразные породы деревьев, а их на Дальнем Востоке имелось гораздо больше сотни.
Бориса всё это заинтересовало, а мы уже знаем, что стоило ему чем-нибудь увлечься, как он становился горячим поклонником этого дела и осваивал его самым лучшим образом. Так было и тут: он был первым и при ответах на теоретические вопросы, и при выполнении практических работ. Кроме его способностей и желания, помогло ему и то, что всё-таки он оказался в числе тех немногих, кто имел среднее образование.
Время для открытия курсов пришло, а отдел кадров Дальлеса так и не сумел подобрать желающих в соответствии с условиями. Пришлось уже добирать не только образованных, но и тех, кто окончил только сельскую школу.
Конечно, не вышло дело и с комсомольской прослойкой: комсомольцев оказалось меньше половины, их было 12 человек. А всего курсантов набрали 32.
На второй день занятий на курсы явился секретарь укома РЛКСМ Волька Барон, он собрал всех комсомольцев и рекомендовал на время занятий курсов организовать комсомольскую группу. Заметив среди курсантов Бориса, Волька предложил его в качестве секретаря этой группы, ведь он знал Алёшкина ещё по Шкотову. Таким образом, у Бориса добавилась ещё одна работа – кстати сказать, не особенно лёгкая: одним из заданий для комсомольцев было добиться того, чтобы все курсанты закончили курсы успешно. Борису и ещё нескольким наиболее грамотным ребятам пришлось взять на себя роль репетиторов, а времени для этого не хватало, ведь занятия на курсах продолжались в день по 9 часов – 5 утром и 4 после обеда. Так что для самостоятельных занятий и подтягивания отстающих оставалась только ночь.
Однако, вернёмся к программе курсов, нам её хочется привести всю, так как она показывает, как в то время даже на краткосрочных курсах старались дать слушателям максимум знаний.
Итак, следующим по важности и интересности предметом было изучение механического оборудования лесопильных заводов. Преподаватель этого дела, инженер Сатонов, объяснял принесённые им чертежи и действия моделей лесопильных рам, лущильных станков, фанерных заводов, действия циркулярных пил, строгальных, фрезерных и множества других станков, действовавших на лесопильном заводе. Одновременно он рассказывал и то, где такие заводы в то время в Приморье находились. А на фанерный завод, расположенный недалеко от станции Седанка, он даже сводил курсантов на экскурсию, где они воочию увидели, как работает лущильный станок, и как под прессами клеятся огромные листы фанеры.
В программе курсов отводилось несколько часов и для делопроизводства, его читал заведующий общим отделом Дальлеса, большевик Гусев. Прослушав и записав его лекции и ознакомившись с основными формами документов, применяемыми в учреждениях Дальлеса, Борис понял, каким же неучем и несмышлёнышем в этом вопросе он был во время своей недолгой работы в конторе Госстраха и сколько же ляпсусов он наделал в составлении тех или иных бумаг и ответах на запросы губернского отдела, и только удивлялся, как это его начальник Сахаров тогда ничего этого не замечал.
Главный бухгалтер Дальлеса ознакомил слушателей с основами бухгалтерии, и эти знания, хотя и очень скудные, в дальнейшем помогли Алёшкину, и не только в работе на поприще десятника Дальлеса, но и гораздо позже, когда ему пришлось занимать значительно более высокие должности.
Послушали курсанты лекцию юрисконсульта, давшего им, кроме того, образцы договоров, которые они должны были заключать с различными артелями. Ведь в то время разработка леса в основном производилась частными артелями, заключавшими договора с представителями Дальлеса. Последние оформляли разрешение на вырубку и передавали практическое исполнение этого дела старосте артели, который сам подбирал рабочих и сам производил с ними расчёт. Десятник заключал договор с этим старостой, с ним и рассчитывался. Получение образцов таких договоров сослужило и Борису, и многим другим, попавшим на периферию, большую службу.
Одно занятие провёл таксатор, он объяснил курсантам, что заготавливаемый ими лес идёт в основном на экспорт в Японию, Англию, Америку и Китай. Эти страны при заключении договоров с Дальлесом пользуются не нашей метрической системой, а применяют свою: Америка и западноевропейские страны – фут, а при объёме – кубофут, а японцы – шаку или, соответственно, кубошаку; десятникам надо было уметь перевести одно измерение в другое, а, следовательно, и пользоваться имеющимися для этого таблицами. Кроме того, при погрузке на железную дорогу и в трюм парохода считалось не количество брёвен, а их объем в соответствующих мерах, а договора с лесорубами и возчиками заключались на штуки. На складах тоже следовало знать количество заготовленного леса не только в количестве досок или брёвен, но и его объём в кубометрах или в кубофутах, а для этого нужно было уметь высчитать объём бревна или доски.
Делать это было непросто даже имевшим среднее образование: вычислить площадь нижнего отреза бревна и площадь верхнего отреза, помножить это на длину, а затем, сложив, разделить пополам, и таким образом, получить средний объём бревна.
Всё это осложнялось ещё и тем, что почти все нанимаемые десятником люди мерили брёвна каждый по-своему: китайцы-рубщики мерили толщину бревна дюймами, а длину футами, крестьяне-возчики мерили толщину вершками, а длину аршинами, и никаких других мер пока не признавали, приёмщики, чаще всего японцы, мерили всё своими шаку, а железная дорога и конторы Дальлеса требовали измерения в кубометрах. Но таксатор и здесь выручил, снабдив курсантов соответствующими таблицами.
Кстати сказать, и пользование этими таблицами, да ещё при наличии такой «счётной машины», как канцелярские счёты, было делом нелегким. И Борису, и его товарищам пришлось немало попотеть, пока они разобрались в таблицах и научились по-настоящему пользоваться счётами. Впрочем, некоторым это так освоить и не удалось.
Мы уже несколько раз упоминали слово «десятник», теперь такого термина не существует, и я даже не знаю, с чем, или вернее с какой должностью, его можно было бы сравнить. Если староста артели мог бы сойти за бригадира, то, вероятно, десятник – это кто-нибудь вроде прораба или мастера участка. Как известно, сейчас эти должности часто занимают инженеры, ну а тогда даже и среднее общее образование считалось верхом образованности.
Хотя за время своего блуждания по сопкам в отряде ГПУ Борис немного отвык от усидчивого труда, он быстро восстановил утраченное и по всем предметам на курсах числился первым.
Время летело очень быстро, и отведённые полтора месяца для теоретических занятий пролетели, как один день. Наступило время экзаменов.
Помимо общих вопросов, касавшихся охраны леса, правильной его вырубки, очистки от сучьев, распиловки на брёвна и выявления имевшихся в дереве болезней, задаваемых Василевским, на экзаменах имелось ещё одно каверзное дело. На столе, в стороне от экзаменаторов, лежали срезы десятков двух деревьев и доски из них. Нужно было, по заданию преподавателя, найти названное им дерево, его срез и доску из него, или наоборот, самому выбрать любой срез и доску и назвать, какому дереву они принадлежат. Вся трудность заключалась в том, что со срезов была удалена кора, их поверхность гладко отполирована, а доски гладко выструганы. На этом каверзном вопросе многие потерпели поражение, но Борис справился с заданием. Дело в том, что эти срезы и доски всё время лежали на полках шкафа, стоявшего в той аудитории, где занимались курсанты, и большинство на них не обращало никакого внимания, хотя около каждого из предметов имелись таблички с надписями, какому дереву принадлежит тот или иной срез или доска. Борис со свойственной ему любознательностью внимательно рассмотрел эту коллекцию – предмет гордости Василевского, а обладая очень хорошей зрительной памятью, почти всё запомнил. Поэтому, увидев на экзамене знакомые предметы, отвечал без запинки, за что снискал похвалу Василевского и удивление его помощников.
Вполне благополучно сдал Борис экзамены и по бухгалтерии, и по делопроизводству, сумел правильно разобраться и в чертеже пилорамы, который достался ему при ответе на вопрос Сатонова.
После теоретических наступили практические экзамены, они заключались в умении правильно срубить дерево, вернее, правильно его свалить. Для этого курсанты выехали в лесную дачу на 26 версте, где как раз проходила рубка леса. Там Василевский, подведя их к какому-нибудь дереву, иногда искривлённому и извитому сильными и частыми Приморскими ветрами, говорил:
– Вот я вбиваю колышек, и ваше дерево должно упасть так, чтобы забить этот колышек до конца. Если вы это сумеете сделать, то, значит, сумеете научить этому и лесорубов, а вам их придётся иногда учить. Приступайте.
Для такой показательной рубки выделялась группа в три человека – два пильщика и один рубщик. Надо было топором подрубить с соответствующей стороны дерево, а затем с другой подпилить ствол на нужной высоте (пенёк не должен был превышать полуметра), и, не прикасаясь к падающему стволу, ждать, упадёт ли он в заданном направлении.