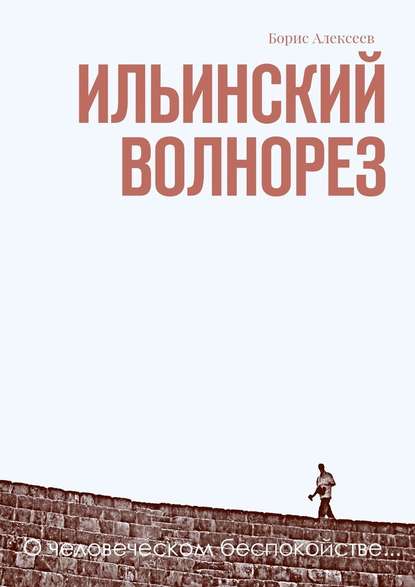По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ильинский волнорез. О человеческом беспокойстве…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, с началом работы в храме он взял за привычку постоянно анализировать себя. Егор легко и с интересом примечал в новых церковных знакомых не только житейские немощи, присущие всякому человеку, но и приобретения, нажитые духовными упражнениями и желанием «угодить» Богу. Что-то принимал, что-то откладывал – не моё, что-то приберегал на потом, не имея сил с ходу взять высоту…
Тем временем вернулся Степан. Он торжественно внёс в кухню литровый пузырь анисовой водки и крохотный (насколько хватило денег) пакетик развесных малосольных огурчиков.
– А хлеб ты купил? – спросил Егор, оглядывая весёлого добытчика.
– Хлеб? – Стёпа сдвинул брови. – Так водку же из пшеницы делают! Я подумал и решил не дублировать. А если совсем честно, то в винном отделе хлеб закончился. Ну, думаю, ладно, когда привезут, тогда куплю ещё.
– Отличная история! – согласился Егор. – Главное – в ней много правды. Правда – это наш первейший хлеб. Верно, Порфир?
– То, что нет хлеба, – это правда, – Порфирий наконец улыбнулся, да так просто и широко, что Егор, а вслед за ним и Стёпа загляделись на сибиряка.
Тем временем приготовления к ужину были закончены. Егор включил тихо Свиридова, и три знатных человека, ещё мало знакомые, но уже не чужие друг другу, расселись за икеевским сухощавым столиком, рассчитанным на две некрупные скандинавские персоны.
– За что пьём, Порфир? – спросил Степан, разливая анисовую, – может, за Россию?
– Можно и за Россию. За ту, главную, – ответил Порфир, принимая стакан из рук Степана.
– Это как? – Стёпа застыл в наклоне.
– А так. Не встретилась Она мне нынче. Пол-России проехал, всё в щель вагонную глядел, думал, примечу на какой станции, – нет. Вроде то, и одёжка, и манер, а горячки сердечной нету. Крюка не слышу.
– Крюка? – Степан откинулся к спинке стула.
– Я полагаю, Порфир имеет в виду древнюю церковную нотопись. Знаменный распев, верно?
– Ну да, у нас так служат до сих пор. Крюк, он как зацеп для человека. Пустой человек не удержится, скользнёт и сорвётся. Знамо, туды ему и дорога. А вот ежели есть в нём душа Божья…
– Тады не скользнёт? – Степан облокотился на стол, глядя прямо в глаза Порфиру.
– Не скользнёт, – Порфир произнёс последнее слово как-то без желания. Затем опустил голову и замер, не говоря ни слова.
– Стёп, имей совесть! – вмешался Егор. – Дай человеку отдышаться.
– Откуда я знаю, о чём вы тут без меня разговоры вели, – вспыхнул Степан. – Им водку принеси, налей!..
– Ребята, – поднялся Егор, – нас действительно мало. Давайте выпьем за крюк, за корешок российский. Закатали Россию в асфальт, а он живёт себе. Вот Порфир его видел, а нам, городским, пока не довелось. Ну, с Богом!
Собеседники чокнулись над столом, и трапеза, как вечерний поезд, скрипя сочленениями, неспешно тронулась.
– Порфирушка, а возьми нас с собой в Сибирь? – Степан щурился от доброго десятка выпитых «чутков». Он то и дело отлучался к холодильнику за очередной порцией закуски и никак не мог задать Порфиру этот важный и, как он считал, очень наболевший вопрос.
– Ну да, я б тоже поехал, вот только роспись надо закончить, – подперев кулаком подбородок, мечтательно произнёс Егор.
– А чё, возьму, – Порфирий единственный из трёх собеседников казался совершенно трезвым и рассудительным, – вот только меня самого примут дядья, нет ли. У нас с этим строго, не санаторий.
– А почему не примут? – Егор взялся разливать чай.
– Потому. Подержи на руках волчонка да подкинь в стаю. Все матки обнюхают его, носами потычат. Может, примут и к титьке подпустят, а мож, и загрызут. У них свои законы.
– Так люди ж не волки! – Степан очнулся от задумчивости.
– Не волки, это правда. Только, случается, человек волчее волка бывает. И много гибели родится от такого человека.
– ?
Порфир приосанился.
– Ну, коли так, слушайте сказ.
Егор отставил чайник, а Степан облокотился поудобней на стол.
– Мал я был тады, годков на пять-шесть нарос, не боле, но говор отца и беглого Семёна в избе помню. Помню каждое слово до хрипотцы. Будто плёнку магнифонную сглотнул, до того всё помню…
Часть 7. Семёнова резня
…Семён провалился в глыбь у самого берега. На последних силах выполз из реки и откинулся на пригорок. Прислушался. За гулкими билами сердца он различил потрескивание валежника. Звук как будто удалялся. «Слава те, повернула, знать». Семён прикрыл глаза и скинул умишко вовнутрь. Там, в глубине собственного тела, бывало, прихлопнет он ставенку и млеет, как на перинке. Пущай наверху хоть что.
Семён был мужик молодой и сильный. Мог позволить себе рассупониться ненадолго. Эдак пересидеть, набраться сил, а там и годить неча – всплыл да пошёл дальше.
Минут десять он лежал с открытыми глазами и выглядывал в кронах береговых цокорей холодное ноябрьское небо. Чувствовал прикосновение мокрой, настылой на ветру одежды, но глухая радость о спасении жизни согревала его тело. Одежонка па?рила сырым тягостным дымком, будто саженая над костром на перепалку.
Семён медленно припоминал случившееся. Шёл себе поверх балки, но оступился и кубарем полетел в овраг. А там, на самом дне, у речки медведица в залёжке пригрелась. Он её-то и поднял. Ежели б ногой не впёрся в корень и рукой не ухватился за цокореву лапу – хана. Ещё чуть, и прям на башку ейную съехал бы.
Семён ухмыльнулся: «Случится ж такое! Оседлать голодного зверя, каковский монтаж!»
На минуту он прервал воспоминания.
– И всё ж почему медведица не пошла по воде, – гадал Семён, – непонятно. Чтой-таки её спугнуло, встревожило? Он-то давай прыгать, как заяц, по руслу, благо мелководье. А медведица мечется на берегу да ревёт в голос. Окрест птах подняла, энда с мазы тюремной воща сбрендила!..
Не отправилась медведица по воде. Ушёл Семён. Ушёл, потрох иудин! Не сгрызла тебя мишка, жить оставила! А как жить, не сказала. Ни кола, ни двора, одни статьи прокурорские. Объяву нарисуешь – сей час пригребут погонники. Знамо, валить куда глаза глядят. Ну, да чё ещё?..
Видит Семён, деревня. Вокруг дворов делянки да огороды. Живут, значит. Пошёл он до крайней избы. Перелез оградку и тихонько постучал в окошко. Занавеска в окне мотнулась взад-вперёд. Через минуту лязгнула задвижка, и хозяин приоткрыл дверь.
– Чё надобно?
– Впусти. Вишь, обтрепался чуток, жрать подвело.
– Кто будешь?
Семён скрипнул зубами:
– Чё тут тайнить, беглый я, со Смолянки.
– Со Смолянки? Так, верно, они за тобой чешут?
– Не, не чешут. Сбил я их, путнул. Да кому я нужён! Медведь, и тот жрать не стал, отступился.
– Медведь?
Тем временем вернулся Степан. Он торжественно внёс в кухню литровый пузырь анисовой водки и крохотный (насколько хватило денег) пакетик развесных малосольных огурчиков.
– А хлеб ты купил? – спросил Егор, оглядывая весёлого добытчика.
– Хлеб? – Стёпа сдвинул брови. – Так водку же из пшеницы делают! Я подумал и решил не дублировать. А если совсем честно, то в винном отделе хлеб закончился. Ну, думаю, ладно, когда привезут, тогда куплю ещё.
– Отличная история! – согласился Егор. – Главное – в ней много правды. Правда – это наш первейший хлеб. Верно, Порфир?
– То, что нет хлеба, – это правда, – Порфирий наконец улыбнулся, да так просто и широко, что Егор, а вслед за ним и Стёпа загляделись на сибиряка.
Тем временем приготовления к ужину были закончены. Егор включил тихо Свиридова, и три знатных человека, ещё мало знакомые, но уже не чужие друг другу, расселись за икеевским сухощавым столиком, рассчитанным на две некрупные скандинавские персоны.
– За что пьём, Порфир? – спросил Степан, разливая анисовую, – может, за Россию?
– Можно и за Россию. За ту, главную, – ответил Порфир, принимая стакан из рук Степана.
– Это как? – Стёпа застыл в наклоне.
– А так. Не встретилась Она мне нынче. Пол-России проехал, всё в щель вагонную глядел, думал, примечу на какой станции, – нет. Вроде то, и одёжка, и манер, а горячки сердечной нету. Крюка не слышу.
– Крюка? – Степан откинулся к спинке стула.
– Я полагаю, Порфир имеет в виду древнюю церковную нотопись. Знаменный распев, верно?
– Ну да, у нас так служат до сих пор. Крюк, он как зацеп для человека. Пустой человек не удержится, скользнёт и сорвётся. Знамо, туды ему и дорога. А вот ежели есть в нём душа Божья…
– Тады не скользнёт? – Степан облокотился на стол, глядя прямо в глаза Порфиру.
– Не скользнёт, – Порфир произнёс последнее слово как-то без желания. Затем опустил голову и замер, не говоря ни слова.
– Стёп, имей совесть! – вмешался Егор. – Дай человеку отдышаться.
– Откуда я знаю, о чём вы тут без меня разговоры вели, – вспыхнул Степан. – Им водку принеси, налей!..
– Ребята, – поднялся Егор, – нас действительно мало. Давайте выпьем за крюк, за корешок российский. Закатали Россию в асфальт, а он живёт себе. Вот Порфир его видел, а нам, городским, пока не довелось. Ну, с Богом!
Собеседники чокнулись над столом, и трапеза, как вечерний поезд, скрипя сочленениями, неспешно тронулась.
– Порфирушка, а возьми нас с собой в Сибирь? – Степан щурился от доброго десятка выпитых «чутков». Он то и дело отлучался к холодильнику за очередной порцией закуски и никак не мог задать Порфиру этот важный и, как он считал, очень наболевший вопрос.
– Ну да, я б тоже поехал, вот только роспись надо закончить, – подперев кулаком подбородок, мечтательно произнёс Егор.
– А чё, возьму, – Порфирий единственный из трёх собеседников казался совершенно трезвым и рассудительным, – вот только меня самого примут дядья, нет ли. У нас с этим строго, не санаторий.
– А почему не примут? – Егор взялся разливать чай.
– Потому. Подержи на руках волчонка да подкинь в стаю. Все матки обнюхают его, носами потычат. Может, примут и к титьке подпустят, а мож, и загрызут. У них свои законы.
– Так люди ж не волки! – Степан очнулся от задумчивости.
– Не волки, это правда. Только, случается, человек волчее волка бывает. И много гибели родится от такого человека.
– ?
Порфир приосанился.
– Ну, коли так, слушайте сказ.
Егор отставил чайник, а Степан облокотился поудобней на стол.
– Мал я был тады, годков на пять-шесть нарос, не боле, но говор отца и беглого Семёна в избе помню. Помню каждое слово до хрипотцы. Будто плёнку магнифонную сглотнул, до того всё помню…
Часть 7. Семёнова резня
…Семён провалился в глыбь у самого берега. На последних силах выполз из реки и откинулся на пригорок. Прислушался. За гулкими билами сердца он различил потрескивание валежника. Звук как будто удалялся. «Слава те, повернула, знать». Семён прикрыл глаза и скинул умишко вовнутрь. Там, в глубине собственного тела, бывало, прихлопнет он ставенку и млеет, как на перинке. Пущай наверху хоть что.
Семён был мужик молодой и сильный. Мог позволить себе рассупониться ненадолго. Эдак пересидеть, набраться сил, а там и годить неча – всплыл да пошёл дальше.
Минут десять он лежал с открытыми глазами и выглядывал в кронах береговых цокорей холодное ноябрьское небо. Чувствовал прикосновение мокрой, настылой на ветру одежды, но глухая радость о спасении жизни согревала его тело. Одежонка па?рила сырым тягостным дымком, будто саженая над костром на перепалку.
Семён медленно припоминал случившееся. Шёл себе поверх балки, но оступился и кубарем полетел в овраг. А там, на самом дне, у речки медведица в залёжке пригрелась. Он её-то и поднял. Ежели б ногой не впёрся в корень и рукой не ухватился за цокореву лапу – хана. Ещё чуть, и прям на башку ейную съехал бы.
Семён ухмыльнулся: «Случится ж такое! Оседлать голодного зверя, каковский монтаж!»
На минуту он прервал воспоминания.
– И всё ж почему медведица не пошла по воде, – гадал Семён, – непонятно. Чтой-таки её спугнуло, встревожило? Он-то давай прыгать, как заяц, по руслу, благо мелководье. А медведица мечется на берегу да ревёт в голос. Окрест птах подняла, энда с мазы тюремной воща сбрендила!..
Не отправилась медведица по воде. Ушёл Семён. Ушёл, потрох иудин! Не сгрызла тебя мишка, жить оставила! А как жить, не сказала. Ни кола, ни двора, одни статьи прокурорские. Объяву нарисуешь – сей час пригребут погонники. Знамо, валить куда глаза глядят. Ну, да чё ещё?..
Видит Семён, деревня. Вокруг дворов делянки да огороды. Живут, значит. Пошёл он до крайней избы. Перелез оградку и тихонько постучал в окошко. Занавеска в окне мотнулась взад-вперёд. Через минуту лязгнула задвижка, и хозяин приоткрыл дверь.
– Чё надобно?
– Впусти. Вишь, обтрепался чуток, жрать подвело.
– Кто будешь?
Семён скрипнул зубами:
– Чё тут тайнить, беглый я, со Смолянки.
– Со Смолянки? Так, верно, они за тобой чешут?
– Не, не чешут. Сбил я их, путнул. Да кому я нужён! Медведь, и тот жрать не стал, отступился.
– Медведь?