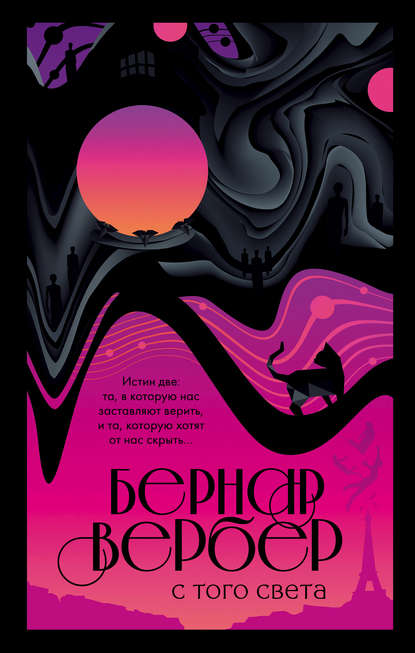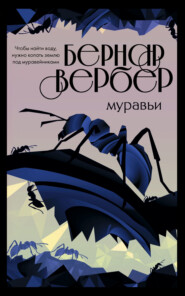По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С того света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Значит, мне разрешается оставаться рядом с вами? Обещаю не досаждать.
– Главное, не терзайте меня своим убийством, без этого я смогу, пожалуй, стерпеть ваше присутствие, – говорит она, допивая чай.
– Благодарю. Я чрезвычайно огорчен вчерашними событиями. Я собирался принести вам извинения за свое поведение, которое вы справедливо назвали эгоистичным. Не иначе, смерть помрачила мой рассудок.
– Теперь помрачение прошло?
– Я стараюсь установить для него рамки.
– Послушайте, вас это заинтересует: о вас пишут! – сообщает она, не отрывая глаз от планшета.
Габриель подлетает к ней, изнывая от любопытства.
– Полюбуйтесь на эти некрологи!
Заголовки посвященных ему статей приводят Габриеля в ужас:
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НОЛЯ
СМЕРТЬ ПИСАТЕЛЯ-БУМАГОМАРАТЕЛЯ
УЭЛЛС: ЗАУРЯДНЫЙ АВТОР
НАКОНЕЦ-ТО СКАЗАЛ ADIEU
Последняя из статей самая пространная: она занимает целые две страницы в популярной газете, ей предшествует неудачная фотография покойного. Подзаголовок гласит: «Счастливое избавление». Авторство статьи принадлежит Жану Муази.
Люси изучает другие сайты, на которых упомянута смерть Габриеля.
– Вывод неутешительный: в целом собратья ценят вас невысоко. Ни один не сподобился настрочить положительный некролог.
– Никакие это не собратся, так, парижские критики. Их всего пара-тройка десятков, одного не отличишь от другого. Всех их научили презрению к жанровой литературе, которую они обзывают «недолитературой».
– Где же ваши защитники?
– Если такие и существуют, то у них почти или совсем нет доступа к прессе.
Люси корчит насмешливую гримасу.
– Снова ваша паранойя?
– Хотелось бы мне, чтобы вы были правы, но посудите сами! Вы же видите, что здесь написано! Во Франции – а может, и не только здесь – любой автор, осмеливающийся писать для широкой публики, оказывается под подозрением.
– Она и есть – паранойя во всей красе! До встречи с вами я и представить не могла эту грань вашей личности. Я всерьез считала, что вы выше всего этого.
– Вам бы хотелось, чтобы вашу смерть назвали «счастливым избавлением»? Вот и я немного чувствителен.
– Раз критикам удалось вас огорчить – значит, они победили.
Она выключает планшет, наливает себе еще чаю и произносит, наконец, слова, которых заждался Габриель:
– Валяйте, месье Уэллс, сегодня утром у меня есть немного времени. Знаю, что вы сгораете от нетерпения поведать мне вашу историю.
21
«Как вы знаете, у меня есть брат-близнец Тома. Говорят, мы обнялись в животе нашей матери еще за несколько дней до родов. Которые пошли очень неважно. Говорят, было море крови, мать чудом выжила. Между прочим, она утверждала, что все предвидела, потому что занималась астрологией.
Наш отец был настроен гораздо более философично. Он преподавал в университете биологию и параллельно был независимым исследователем. Он надеялся прославиться своими опытами, но увлекавшие его области мало кого интересовали. Например, работая в США, он выяснил, что червь планария умеет находить дорогу в лабиринте после того, как у него отрастет ранее отрезанная голова. Он всерьез верил, что своим открытием сумеет в один прекрасный день продлить человеческую жизнь. О его опытах рассказано в энциклопедии моего двоюродного деда Эдмонда Уэллса, и они долго завораживали нас с братом. Из-за этого мы очень рано стали задаваться вопросами о жизни и смерти, о памяти, о месте, где обитает душа.
Мой отец больше любил Тома, а я был скорее маминым любимчиком: она меня душила своей любовью. Дед с отцовской стороны, Игнас Уэллс, лейтенант полиции, был моим сообщником. Мы с ним подолгу беседовали на берегу озера в Булонском лесу, бросая лебедям кусочки хлеба.
Вы – не единственная, кого мучила избыточная родительская любовь. Вы – «Коза господина Сегена» Альфонса Доде, я – «Гадкий утенок» Андерсена. На случай, если вы забыли эту сказку, я вам ее напомню: утенок, затравленный другими птенцами, вырастает и оказывается вовсе не уткой: к утиным яйцам по ошибке подложили лебединое. Поняв свое отличие, причинившее ему столько страданий, он обретает счастье. «Любой изъян может стать козырем. Понятая ошибка может сойти за художественный выбор».
Так лебедь стал символом нашего с дедом заговора, а озеро – нашей «конспиративной квартирой».
Если не считать восхитительных моментов в обществе деда, жизнь среди других «утят» была непростой. В отличие от брата, я плохо учился, был неспортивным. Он сидел на первой парте, я – на задней, у батареи. Учителя отзывались обо мне как о «мечтателе, которому надо вернуться на землю». Мы превратились для учителей в объекты изучения: близнецы, похожие во всем, только один – первый ученик, второй – безнадежно отстающий.
Я не любил книги, которые нужно было читать по программе. Мне казалось, что их авторы преподают нам урок, морализируют, восторгаясь собой; я чувствовал, что сами они не следовали в жизни тем мудрым советам, которые навязывают читателям.
Дедушка, заметив, что я отвергаю «официальную» литературу, сказал мне как-то раз: «Знаешь, хорошую книгу можно пересказать хорошим анекдотом». И стал сыпать анекдотами. Это давало мгновенный эффект. Его анекдоты удлинялись, пока он не посоветовал мне прочесть «особенную книгу», которую считал хорошим анекдотом на триста страниц – «Собаку Баскервилей» англичанина Конан Дойла. Она стала для меня откровением, я переворачивал страницы как околдованный. Я залпом проглотил весь роман, забыв о времени. То же самое, что чувствовали вы, читая в тюрьме «Мы, мертвецы», я почувствовал, читая Конан Дойла. Мне не терпелось узнать, что за чудовище прячется среди пустошей, наводя ужас на всех, кто туда сунется. С тех пор литература перестала быть для меня вереницей округлых фраз, нанизываемых, как жемчужины на нить, и превратилась в загадку, разрешить которую можно только при помощи волшебства.
Мне тоже не годился мир, предлагаемый родителями и школой. Я тоже совершил побег, только не физически, а психологически.
После «Собаки Баскервилей» я проглотил всего Конан Дойла, а потом придумал моего собственного сыщика по прозвищу Лебедь. Я представлял его чрезвычайно белокожим, длинношеим, становившимся очень агрессивным, когда его разозлят. Его девиз гласил: «Истин две: та, в которую нас заставляют верить, и та, которую хотят от нас скрыть».
Сначала я придумывал 10-страничные расследования с небольшим набором персонажей, простенькие рассказики, но всякий раз с максимально неожиданным концом. В голове у меня для каждой такой истории складывалась собственная архитектура: некоторые имели форму круга (до сыщика доходило, что виновник загадки торчал у него перед глазами с самого начала), другие – форму спирали (история неуклонно усложнялась, расширялась, описывала нежданные виражи); бывали также треугольники (один персонаж использовал для достижения своих целей другой), пирамиды (несколько параллельных интриг, сходившихся в вершине), кресты, готические переплетения… В качестве повествовательной структуры я использовал принципы магического искусства: отвлечение, вынужденный выбор, двойное дно, зеркальность, парность… Да, я могу сказать, что расследования Шерлока Холмса вместе со всем, что они во мне разбудили, стали моим спасением.
В школе я по-прежнему отставал, только учителя французского все больше меня хвалили. Помнится, один из них так и заявил: «Откровенно говоря, я обожаю вас читать; я смеялся от души, ваша финальная находка меня ошеломила, но вам следует потрудиться над формой. Вы допустили десять орфографических ошибок, так что мне опять пришлось влепить вам «0». Но хочу, чтобы вы знали: читать вас для меня такое удовольствие, что я всегда начинаю с вашей работы, чтобы хватило запала на остальные, часто безупречные в плане орфографии, зато смертельно скучные».
Преподаватели оценивали меня по заслугам – по-прежнему низко, в отличие от одноклассников, полюбивших мои рассказы об инспекторе Лебеде на уроках физкультуры.
Я нашел свое место: стал рассказчиком. С незапамятных времен существовали барды, гриоты, сказители, создававшие коллективную культуру. Мои расследования лейтенанта Лебедя собирали особое племя слушателей, что привело к тому, что девочки тоже стали обращать на меня внимание.
С тех пор между мной и братом вспыхнула конкуренция: он преуспевал в классических предметах, я набирал очки в своем новом призвании. В каком-то смысле я стал продолжателем дела нашей матери-астролога, веселившей своими историями клиентов.
Тома хотел стать серьезным ученым, подхватить отцовское знамя, пусть и избрал впоследствии вместо биологии физику. Он стремился стать конструктором волновых приборов, это была его изюминка.
Когда дедушка попал в больницу, мне было 13 лет; я его навещал, и мы продолжали наши долгие беседы. Ему было тогда 82 года, и он быстро слабел. Он говорил мне, что хочет умереть, но бабушка неизменно отвечала ему: «Брось глупить, твой врач убежден, что у тебя есть шансы выздороветь». Помню, он пытался сорвать с себя трубки капельницы, из-за этого его пристегивали к койке ремнями. Он умолял меня помочь ему умереть, но я не представлял, как это сделать. Наконец, я узнал, что у него хватило сил сбросить ремни и самостоятельно положить конец своим дням. Для меня стала ударом сама его смерть, как и отказ бабки соблюсти его волю. «Если человек даже не может сам решить, когда ему умереть, то для чего вообще нужна свобода?» – задавался я вопросом.
Меня глубоко удручила эта утрата, но моего брата она оставила равнодушным. Он твердил: «Медицина сделала все, что могла, но дедушка решил сражаться с решениями врача и поплатился за это». Видя, что я совершенно убит смертью деда, Тома предложил мне изготовить «некрофон» – прибор для бесед с мертвыми, вдохновленный подлинным изобретением Томаса Эдисона, преследовавшего ту же самую цель. Я пришел в восторг от этой затеи и решил, что, пока он будет доводить до ума свой потрясающий прибор, я использую свой талант начинающего писателя и придумаю, как его применить. Написанный тогда рассказ с простым названием «Некрофон» лег в основу романа «Мы, мертвецы», который я написал спустя десять лет.
Потом я поступил на юридический факультет, но там мне быстро наскучило; зато меня сразу увлекла криминология. Я легко сдал выпускные экзамены и за отсутствием конкуренции (учившиеся на журналистов предпочитали криминологии политику и культуру) был легко принят в крупный левый еженедельник, подыскивавший журналиста, специализирующегося в криминологии.
Первые же мои статьи имели большой успех: читателям приглянулся мой романный стиль, напрямую заимствованный у Конан Дойла. Я следил за судебными процессами, а затем театрализованно представлял их в своих статьях, приводя много подробностей из психологии участников – как убийц, так и жертв.
Главный редактор быстро предложил мне повышение – весьма завидный ранг «крупного репортера». Мне было дозволено писать объемные репортажи и снабжать их фотографиями; я даже получил время на собственные расследования и допросы свидетелей. Мне предложили высокую зарплату, предоставили журнальную площадь для высказывания, а я в ответ наращивал журналу аудиторию. Первые же мои репортажи заметили, меня цитировали на радио, мой анализ воспроизводили в журналах-конкурентах, на моем рабочем столе неуклонно росла гора читательских писем.
А потом я опубликовал материал о бельгийском педофиле, обвиненном в похищении детей. Считалось, что он действовал один. Но я, проведя собственное расследование, выяснил, что он был звеном целой сети из сотни людей, к которой принадлежали видные немцы и даже бельгийские министры. К моему удивлению, судьи отказались даже рассматривать гипотезу о преступной организации, более того, заткнули рот обвиняемому, стоило тому заикнуться о сообщниках. Я не верил своим глазам и ушам. Пришлось написать статью, разоблачавшую старания юстиции замять дело. Правда, мне не удалось изложить все свои умозаключения, потому что главный редактор испугался последствий и сам признался мне в этом: «Иногда люди исчезают и по менее веским причинам».
– Главное, не терзайте меня своим убийством, без этого я смогу, пожалуй, стерпеть ваше присутствие, – говорит она, допивая чай.
– Благодарю. Я чрезвычайно огорчен вчерашними событиями. Я собирался принести вам извинения за свое поведение, которое вы справедливо назвали эгоистичным. Не иначе, смерть помрачила мой рассудок.
– Теперь помрачение прошло?
– Я стараюсь установить для него рамки.
– Послушайте, вас это заинтересует: о вас пишут! – сообщает она, не отрывая глаз от планшета.
Габриель подлетает к ней, изнывая от любопытства.
– Полюбуйтесь на эти некрологи!
Заголовки посвященных ему статей приводят Габриеля в ужас:
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НОЛЯ
СМЕРТЬ ПИСАТЕЛЯ-БУМАГОМАРАТЕЛЯ
УЭЛЛС: ЗАУРЯДНЫЙ АВТОР
НАКОНЕЦ-ТО СКАЗАЛ ADIEU
Последняя из статей самая пространная: она занимает целые две страницы в популярной газете, ей предшествует неудачная фотография покойного. Подзаголовок гласит: «Счастливое избавление». Авторство статьи принадлежит Жану Муази.
Люси изучает другие сайты, на которых упомянута смерть Габриеля.
– Вывод неутешительный: в целом собратья ценят вас невысоко. Ни один не сподобился настрочить положительный некролог.
– Никакие это не собратся, так, парижские критики. Их всего пара-тройка десятков, одного не отличишь от другого. Всех их научили презрению к жанровой литературе, которую они обзывают «недолитературой».
– Где же ваши защитники?
– Если такие и существуют, то у них почти или совсем нет доступа к прессе.
Люси корчит насмешливую гримасу.
– Снова ваша паранойя?
– Хотелось бы мне, чтобы вы были правы, но посудите сами! Вы же видите, что здесь написано! Во Франции – а может, и не только здесь – любой автор, осмеливающийся писать для широкой публики, оказывается под подозрением.
– Она и есть – паранойя во всей красе! До встречи с вами я и представить не могла эту грань вашей личности. Я всерьез считала, что вы выше всего этого.
– Вам бы хотелось, чтобы вашу смерть назвали «счастливым избавлением»? Вот и я немного чувствителен.
– Раз критикам удалось вас огорчить – значит, они победили.
Она выключает планшет, наливает себе еще чаю и произносит, наконец, слова, которых заждался Габриель:
– Валяйте, месье Уэллс, сегодня утром у меня есть немного времени. Знаю, что вы сгораете от нетерпения поведать мне вашу историю.
21
«Как вы знаете, у меня есть брат-близнец Тома. Говорят, мы обнялись в животе нашей матери еще за несколько дней до родов. Которые пошли очень неважно. Говорят, было море крови, мать чудом выжила. Между прочим, она утверждала, что все предвидела, потому что занималась астрологией.
Наш отец был настроен гораздо более философично. Он преподавал в университете биологию и параллельно был независимым исследователем. Он надеялся прославиться своими опытами, но увлекавшие его области мало кого интересовали. Например, работая в США, он выяснил, что червь планария умеет находить дорогу в лабиринте после того, как у него отрастет ранее отрезанная голова. Он всерьез верил, что своим открытием сумеет в один прекрасный день продлить человеческую жизнь. О его опытах рассказано в энциклопедии моего двоюродного деда Эдмонда Уэллса, и они долго завораживали нас с братом. Из-за этого мы очень рано стали задаваться вопросами о жизни и смерти, о памяти, о месте, где обитает душа.
Мой отец больше любил Тома, а я был скорее маминым любимчиком: она меня душила своей любовью. Дед с отцовской стороны, Игнас Уэллс, лейтенант полиции, был моим сообщником. Мы с ним подолгу беседовали на берегу озера в Булонском лесу, бросая лебедям кусочки хлеба.
Вы – не единственная, кого мучила избыточная родительская любовь. Вы – «Коза господина Сегена» Альфонса Доде, я – «Гадкий утенок» Андерсена. На случай, если вы забыли эту сказку, я вам ее напомню: утенок, затравленный другими птенцами, вырастает и оказывается вовсе не уткой: к утиным яйцам по ошибке подложили лебединое. Поняв свое отличие, причинившее ему столько страданий, он обретает счастье. «Любой изъян может стать козырем. Понятая ошибка может сойти за художественный выбор».
Так лебедь стал символом нашего с дедом заговора, а озеро – нашей «конспиративной квартирой».
Если не считать восхитительных моментов в обществе деда, жизнь среди других «утят» была непростой. В отличие от брата, я плохо учился, был неспортивным. Он сидел на первой парте, я – на задней, у батареи. Учителя отзывались обо мне как о «мечтателе, которому надо вернуться на землю». Мы превратились для учителей в объекты изучения: близнецы, похожие во всем, только один – первый ученик, второй – безнадежно отстающий.
Я не любил книги, которые нужно было читать по программе. Мне казалось, что их авторы преподают нам урок, морализируют, восторгаясь собой; я чувствовал, что сами они не следовали в жизни тем мудрым советам, которые навязывают читателям.
Дедушка, заметив, что я отвергаю «официальную» литературу, сказал мне как-то раз: «Знаешь, хорошую книгу можно пересказать хорошим анекдотом». И стал сыпать анекдотами. Это давало мгновенный эффект. Его анекдоты удлинялись, пока он не посоветовал мне прочесть «особенную книгу», которую считал хорошим анекдотом на триста страниц – «Собаку Баскервилей» англичанина Конан Дойла. Она стала для меня откровением, я переворачивал страницы как околдованный. Я залпом проглотил весь роман, забыв о времени. То же самое, что чувствовали вы, читая в тюрьме «Мы, мертвецы», я почувствовал, читая Конан Дойла. Мне не терпелось узнать, что за чудовище прячется среди пустошей, наводя ужас на всех, кто туда сунется. С тех пор литература перестала быть для меня вереницей округлых фраз, нанизываемых, как жемчужины на нить, и превратилась в загадку, разрешить которую можно только при помощи волшебства.
Мне тоже не годился мир, предлагаемый родителями и школой. Я тоже совершил побег, только не физически, а психологически.
После «Собаки Баскервилей» я проглотил всего Конан Дойла, а потом придумал моего собственного сыщика по прозвищу Лебедь. Я представлял его чрезвычайно белокожим, длинношеим, становившимся очень агрессивным, когда его разозлят. Его девиз гласил: «Истин две: та, в которую нас заставляют верить, и та, которую хотят от нас скрыть».
Сначала я придумывал 10-страничные расследования с небольшим набором персонажей, простенькие рассказики, но всякий раз с максимально неожиданным концом. В голове у меня для каждой такой истории складывалась собственная архитектура: некоторые имели форму круга (до сыщика доходило, что виновник загадки торчал у него перед глазами с самого начала), другие – форму спирали (история неуклонно усложнялась, расширялась, описывала нежданные виражи); бывали также треугольники (один персонаж использовал для достижения своих целей другой), пирамиды (несколько параллельных интриг, сходившихся в вершине), кресты, готические переплетения… В качестве повествовательной структуры я использовал принципы магического искусства: отвлечение, вынужденный выбор, двойное дно, зеркальность, парность… Да, я могу сказать, что расследования Шерлока Холмса вместе со всем, что они во мне разбудили, стали моим спасением.
В школе я по-прежнему отставал, только учителя французского все больше меня хвалили. Помнится, один из них так и заявил: «Откровенно говоря, я обожаю вас читать; я смеялся от души, ваша финальная находка меня ошеломила, но вам следует потрудиться над формой. Вы допустили десять орфографических ошибок, так что мне опять пришлось влепить вам «0». Но хочу, чтобы вы знали: читать вас для меня такое удовольствие, что я всегда начинаю с вашей работы, чтобы хватило запала на остальные, часто безупречные в плане орфографии, зато смертельно скучные».
Преподаватели оценивали меня по заслугам – по-прежнему низко, в отличие от одноклассников, полюбивших мои рассказы об инспекторе Лебеде на уроках физкультуры.
Я нашел свое место: стал рассказчиком. С незапамятных времен существовали барды, гриоты, сказители, создававшие коллективную культуру. Мои расследования лейтенанта Лебедя собирали особое племя слушателей, что привело к тому, что девочки тоже стали обращать на меня внимание.
С тех пор между мной и братом вспыхнула конкуренция: он преуспевал в классических предметах, я набирал очки в своем новом призвании. В каком-то смысле я стал продолжателем дела нашей матери-астролога, веселившей своими историями клиентов.
Тома хотел стать серьезным ученым, подхватить отцовское знамя, пусть и избрал впоследствии вместо биологии физику. Он стремился стать конструктором волновых приборов, это была его изюминка.
Когда дедушка попал в больницу, мне было 13 лет; я его навещал, и мы продолжали наши долгие беседы. Ему было тогда 82 года, и он быстро слабел. Он говорил мне, что хочет умереть, но бабушка неизменно отвечала ему: «Брось глупить, твой врач убежден, что у тебя есть шансы выздороветь». Помню, он пытался сорвать с себя трубки капельницы, из-за этого его пристегивали к койке ремнями. Он умолял меня помочь ему умереть, но я не представлял, как это сделать. Наконец, я узнал, что у него хватило сил сбросить ремни и самостоятельно положить конец своим дням. Для меня стала ударом сама его смерть, как и отказ бабки соблюсти его волю. «Если человек даже не может сам решить, когда ему умереть, то для чего вообще нужна свобода?» – задавался я вопросом.
Меня глубоко удручила эта утрата, но моего брата она оставила равнодушным. Он твердил: «Медицина сделала все, что могла, но дедушка решил сражаться с решениями врача и поплатился за это». Видя, что я совершенно убит смертью деда, Тома предложил мне изготовить «некрофон» – прибор для бесед с мертвыми, вдохновленный подлинным изобретением Томаса Эдисона, преследовавшего ту же самую цель. Я пришел в восторг от этой затеи и решил, что, пока он будет доводить до ума свой потрясающий прибор, я использую свой талант начинающего писателя и придумаю, как его применить. Написанный тогда рассказ с простым названием «Некрофон» лег в основу романа «Мы, мертвецы», который я написал спустя десять лет.
Потом я поступил на юридический факультет, но там мне быстро наскучило; зато меня сразу увлекла криминология. Я легко сдал выпускные экзамены и за отсутствием конкуренции (учившиеся на журналистов предпочитали криминологии политику и культуру) был легко принят в крупный левый еженедельник, подыскивавший журналиста, специализирующегося в криминологии.
Первые же мои статьи имели большой успех: читателям приглянулся мой романный стиль, напрямую заимствованный у Конан Дойла. Я следил за судебными процессами, а затем театрализованно представлял их в своих статьях, приводя много подробностей из психологии участников – как убийц, так и жертв.
Главный редактор быстро предложил мне повышение – весьма завидный ранг «крупного репортера». Мне было дозволено писать объемные репортажи и снабжать их фотографиями; я даже получил время на собственные расследования и допросы свидетелей. Мне предложили высокую зарплату, предоставили журнальную площадь для высказывания, а я в ответ наращивал журналу аудиторию. Первые же мои репортажи заметили, меня цитировали на радио, мой анализ воспроизводили в журналах-конкурентах, на моем рабочем столе неуклонно росла гора читательских писем.
А потом я опубликовал материал о бельгийском педофиле, обвиненном в похищении детей. Считалось, что он действовал один. Но я, проведя собственное расследование, выяснил, что он был звеном целой сети из сотни людей, к которой принадлежали видные немцы и даже бельгийские министры. К моему удивлению, судьи отказались даже рассматривать гипотезу о преступной организации, более того, заткнули рот обвиняемому, стоило тому заикнуться о сообщниках. Я не верил своим глазам и ушам. Пришлось написать статью, разоблачавшую старания юстиции замять дело. Правда, мне не удалось изложить все свои умозаключения, потому что главный редактор испугался последствий и сам признался мне в этом: «Иногда люди исчезают и по менее веским причинам».