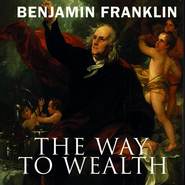По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Время – деньги. Автобиография
Автор
Жанр
Год написания книги
1791
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Видя мое увлечение книгами, отец решил наконец сделать из меня типографщика, хотя один его сын (Джеймс) уже занимался этим ремеслом. В 1717 году Джеймс вернулся из Англии с печатным станком и набором литер и открыл типографию в Бостоне. Она понравилась мне куда больше, чем отцовская мастерская, но я все еще мечтал о море. Чтобы положить этому конец, мой отец поспешил отдать меня в обучение брату. Какое-то время я этому противился, но наконец дал себя уговорить и подписал договор, когда мне еще не исполнилось тринадцати лет. Я обязывался до двадцати одного года работать учеником и только на последний год мне было оговорено жалованье подмастерья. В новом занятии я быстро преуспел и стал брату полезным помощником. Теперь я получил доступ к более интересным книгам. Я познакомился с учениками книгопродавцев, и они давали мне почитать книги с условием, что я буду возвращать их быстро и в чистом виде. Мне случалось просиживать за чтением добрую половину ночи, если книга попадала ко мне вечером, а утром ее надобно было вернуть, чтобы хозяин не успел ее хватиться.
Через некоторое время на меня обратил внимание один образованный купец мистер Мэтью Адамс, владевший изрядным собранием книг. Он бывал у нас в типографии и любезно предложил мне приходить к нему на дом и брать для прочтения любую книгу. Я теперь увлекся поэзией и сам стал понемножку сочинять стихи. Брат решил, что это сулит ему выгоду, поощрял мои попытки и сам заказывал мне баллады на разные случаи. Одна называлась «Трагедия у маяка» и повествовала о гибели в море капитана Уортилейка и двух его дочерей; другая была в форме матросской песни о том, как был захвачен пират Тич (он же Черная Борода). Стихи были никудышные, в духе тогдашней литературной дешевки, но брат печатал их, а потом посылал меня торговать ими на улицах. Первая баллада разошлась очень быстро, ибо событие, в ней описанное, произошло совсем недавно и наделало много шума. Это польстило моему тщеславию, но отец отваживал меня от стихотворства, высмеивая мои творения и убеждая меня, что стихоплетов обычно ждет нищенская доля. Так я избежал судьбы поэта, по всей вероятности, очень плохого; зато писание прозы весьма пригодилось мне и помогло продвинуться в жизни, поэтому я расскажу тебе, как я в моем положении сумел приобрести свое теперешнее, пусть и несовершенное, умение: писать.
Был у нас в городе еще один юный книгочей, некто Джон Коллинз, с которым я близко сошелся. Мы с ним часто спорили, получая от сего большое удовольствие и всячески стараясь загнать друг друга в угол; а это, кстати говоря, становится дурной привычкой, так как люди, повинуясь ей и постоянно всем переча, чрезвычайно неприятны в обществе и не только нарушают и портят общую беседу, но и вызывают к себе неприязнь и даже враждебность там, где могли бы приобрести друзей. Я заразился этой привычкой, читая отцовы книги, полные богословской полемики. С тех пор я замечал, что люди здравомыслящие редко ею страдают, если не считать законников, студентов университета и всех, кто родом из Эдинбурга.
Однажды у нас с Коллинзом завязался спор о том, подобает ли давать образование женщинам и способны ли они к ученью. Коллинз считал, что учить их ни к чему и что они от природы неспособны к наукам. Я доказывал противное – просто, может быть, из желания поспорить. Он был более красноречив, располагал более богатым запасом слов и порой, как мне казалось, побеждал меня не столько силой своих доводов, сколько умением облечь их в слова. Мы расстались, так ни до чего и не договорившись, и я, зная, что в ближайшее время мы не увидимся, сел и изложил свои доводы в письменном виде, а потом переписал их набело и послал ему. Он ответил, я не остался в долгу. Когда с той и с другой стороны было написано по три-четыре письма, мои бумаги случайно попали на глаза отцу, и он их прочел. Не вмешиваясь в существо нашего спора, он воспользовался случаем поговорить о том, как я пишу, и отметил, что хотя по части правописания и знаков препинания я превосхожу моего противника (этим я был обязан типографии), но сильно уступаю ему в изяществе слога, в ясности и логике, и тут же убедил меня на нескольких примерах. Я согласился с его замечаниями и стал уделять больше внимания своему слогу, твердо решив добиться в этом успеха.
В это примерно время мне попался в лавке старый экземпляр «Зрителя». Том третий. Раньше я этот журнал в глаза не видел. Я купил его, стал читать и перечитывать и пришел в полный восторг. Слог показался мне отменным, и я попробовал подражать ему. С этой целью я брал несколько статей и, кратко записав, какая мысль изложена в каждом предложении, откладывал затем статьи в сторону на несколько недель, а уж потом, не глядя в книгу, старался восстановить очерк, развивая одну мысль за другой так, как она мне запомнилась, и самыми, как мне казалось, подходящими для того словами. Потом я сличал моего «Зрителя» с подлинным, находил у себя ошибки и исправлял их. Но оказалось, что слов мне не хватает и нет умения быстро вспоминать их и пускать в дело, а умение это, думалось мне, у меня уже было бы, если бы я не бросил писать стихи; ведь для стихов постоянно требуются слова с одинаковым значением, но другой длины, чтобы соответствовали размеру, или же другого звучания – ради рифмы, и это заставляло бы меня беспрестанно добиваться разнообразия, а добившись его, удержать в памяти и распоряжаться им по своей воле. Тогда я стал перелагать некоторые из очерков в стихи, а спустя время, уже забыв первоначальный текст, снова переписывал прозой. Бывало и так, что я смешивал в одну кучу все мои краткие заметки, а через несколько недель пытался расположить их в наилучшем порядке, чтобы потом уже построить предложения и закончить статью. Так я учился логической последовательности мыслей. Затем я сравнивал мою работу с подлинником, находил и исправлял ошибки; а иногда не без радости замечал, что в каких-то второстепенных местах мне посчастливилось превзойти подлинник в логике или в слоге, и тогда я начинал надеяться, что когда-нибудь научусь сносно писать по-английски, что было моей заветной мечтой. Время для этих упражнений, как и для чтения книг, я выкраивал вечером после работы или рано утром до работы и по воскресеньям, когда я оставался в типографии один, по возможности избегая семейного посещения церкви, которого требовал отец, когда я еще жил дома, и которое я и сам доселе почитал своим долгом, хотя и уверял себя, что не имею на него времени.
Мне было лет шестнадцать, когда я прочел книгу некоего Трайона, рекомендовавшего есть только растительную пищу. Я решил последовать его совету. Брат мой, человек холостой, не вел своего хозяйства, а столовался вместе с учениками в другой семье. Мой отказ есть рыбу вызвал кое-какие неудобства, и меня частенько ругали за мои причуды. Я вычитал у Трайона, как готовить некоторые блюда, например картошку, рис, быстрый пудинг, после чего предложил брату, что, если он будет каждую неделю давать мне половину тех денег, которые платит за мои харчи, я буду столоваться своими силами. Он немедля согласился, и скоро оказалось, что мне хватает и половины того, что он мне дает. Так у меня прибавилось денег на покупку книг. Но было тут и еще одно преимущество. Когда брат и остальные уходили из типографии обедать или ужинать, я оставался там один и, разделавшись со своей легкой трапезой – часто она состояла всего лишь из пряника и ломтя хлеба, горсти изюма или пирожка от кондитера и стакана воды, – все остальное время до их возвращения мог уделять занятиям, в которых преуспевал лучше, чем когда-либо, ибо известно, что умеренность в еде и питье обеспечивает ясную голову и быстроту понимания.
В это-то время, поскольку мне не раз уже довелось стыдиться моего невежества по части счета, которому я в школе так и не выучился, я взял учебник арифметики Кокера и одолел его с величайшей легкостью. Прочел я также руководства Селлера и Шерми по навигации и усвоил те немногие сведения по геометрии, кои в них содержались, однако дальше в этой науке не продвинулся. И тогда же я прочел «Опыт о человеческом разумении» Локка и «Искусство мыслить» господ из Пор-Рояля.
Стараясь усовершенствовать мой слог, я купил английскую грамматику (кажется, Гринвуда), где были приведены образцы риторики и логики, причем второй из них кончался отрывками из спора по методе Сократа, и я не замедлил раздобыть Ксенофонтовы «Воспоминания о Сократе», включающие несколько примеров этой методы. Она меня пленила, я отказался от привычки слишком резких возражений и безапелляционных доводов, сменив ее на смиренную роль вопрошателя и сомневающегося. А поскольку я в то время, начитавшись Шефтсбери и Коллинза, и в самом деле сомневался касательно многих пунктов нашей религиозной доктрины, то метода эта оказалась для меня самой безопасной, а моих противников нередко сбивала с толку. Поэтому я широко ею пользовался и наловчился даже людей, превосходивших меня ученостью, вынуждать к уступкам, которых последствия они не могли предвидеть, повергать их в затруднения, из которых они не могли выбраться, и таким образом одерживать победы, каких не заслуживали ни я сам, ни положения, мною отстаиваемые. Прибегал я к этой методе несколько лет, но постепенно оставил ее, сохранив только привычку выражаться скромно и без самоуверенности, никогда не употреблять применительно к какому-нибудь спорному вопросу слова «разумеется», «безусловно» и им подобные, предпочитая выражения «я полагаю», «мне кажется», или «я думаю, что это так, и вот почему», или «так это мне представляется», или «если не ошибаюсь, это именно так». Привычка эта, думается, мне очень пригодилась, когда понадобилось внедрять некоторые мои мнения и склонять людей к принятию мер, за которые я ратовал. А поскольку главная цель всякого разговора заключается в том, чтобы сообщать или получать сведения, доставлять собеседникам удовольствие или убеждать их, – я считаю, что разумным людям не подобает подрывать свою способность приносить пользу не в меру решительной манерой, ведь обычно это вызывает отвращение и отпор, а значит – идет во вред целям, для коих нам дана речь, а именно сообщать или получать сведения и доставлять удовольствие. Ибо если вы хотите сообщить какие-нибудь сведения, слишком резкая и догматическая манера может вызвать противодействие и ослабить внимание собеседника. Если же вы сами хотите обогатиться какими-нибудь сведениями, но даете понять, что ваше-то мнение на этот счет твердо, то люди разумные и скромные, неохочие до лишних споров, оставят вас пребывать в ваших заблуждениях. И не надейтесь, что вы доставите своим слушателям удовольствие или убедите тех, кого хотели бы иметь единомышленниками. Поуп прозорливо заметил:
Не дай понять ученику, что ты его учил,
Пусть думает, что знал и сам, да только позабыл.
И далее он советует нам, даже если мы в чем уверены, утверждать это как бы с оговоркой. Эта его строка рифмуется с той, которую он срифмовал иначе, причем, на мой взгляд, менее удачно:
Где нету скромности, там не ищи ума.
Если вы спросите, почему менее удачно, я должен спросить: а не является ли недостаток ума (если несчастному его недостает) сам по себе оправданием для недостатка скромности?
Об этом, впрочем, судить не мне.
В 1720 или в 1721 году мой брат начал издавать газету. Это была вторая газета, издававшаяся в Америке, и называлась она «Вестник Новой Англии». Раньше нее появились только «Бостонские известия». Помню, что несколько друзей отговаривали его от этой затеи, уверяя, что она не сулит удачи и что для Америки достаточно и одной газеты. Сейчас, в 1771 году, их выходит не менее двадцати пяти. Однако он не отступился от своего намерения, и я помогал ему набирать и печатать страницы, а потом разносил газету по городу.
Среди его знакомых были образованные люди, которые время от времени забавы ради сочиняли для его газеты статьи. Это повышало спрос, а господа эти часто нас посещали. Слушая их разговоры и рассказы о том, как одобрительно встречают их сочинения, я загорелся желанием тоже попытать счастья; но так как я был еще очень юн и подозревал, что брат не захочет печатать мои произведения, если будет знать, что они написаны мною, я однажды изменил свой почерк и ночью подсунул листок без подписи под дверь типографии. Утром брат его нашел и показал своим пишущим друзьям, когда те по обыкновению к нам зашли. Они прочли статью, обсудили ее при мне, и я с величайшей радостью убедился, что статью они одобрили и, теряясь в догадках, кто бы мог быть ее автором, называли только имена людей, известных своей ученостью и остротой ума. Возможно, мне просто повезло на критиков и сочинение мое было не столь хорошо, как мне тогда казалось.
Однако я, ободренный успехом, таким же способом опубликовал еще несколько вещиц, тоже принятых благосклонно; и держал это в тайне до тех пор, пока не иссяк скудный запас моих мыслей и тем, а тогда открыл тайну, после чего друзья брата стали относиться ко мне уважительнее, чем брат был недоволен, потому что опасался, вероятно не без основания, как бы я не загордился. Возможно, это было одной из причин тех размолвок, которые между нами начались в то время. Он, хоть и был мне брат, считал себя моим хозяином, а меня – учеником и соответственно ожидал от меня, как и от других учеников, кое-каких услуг, я же считал, что он мною помыкает и что брату пристало бы быть снисходительнее. Споры наши нередко приходилось разрешать отцу, и то ли я чаще был прав, то ли язык у меня был лучше подвешен, только решение его обычно бывало в мою пользу. Но брат был человек вспыльчивый, поколачивал меня, а этого я не терпел; учение порядком мне надоело, я только и мечтал о том, как бы его сократить, и наконец совершенно неожиданно к тому представился случай[2 - Думаю, что его деспотическое обращение со мной и породило во мне отвращение к произволу, сохранившееся у меня на всю жизнь. (Здесь и далее примеч. автора.)].
Одна из политических статей в нашей газете, какая именно, уже не помню, вызвала недовольство Законодательной Ассамблеи. Брата взяли под стражу, судили и приговорили к месяцу тюрьмы, как я понимаю, – по приказу спикера, за то, что он отказался назвать автора статьи. Меня тоже взяли и подвергли допросу; но, хотя я ничего не сообщил, удовольствовались предостережением и отпустили, решив, очевидно, что я как ученик связан обещанием хранить хозяйские тайны.
Пока брат находился в заключении, что очень меня возмущало, несмотря на наши личные нелады, я возглавлял газету и осмелился раза два высмеять в ней наших правителей. Брат мой отнесся к этому снисходительно, но кое-кто стал поглядывать на меня косо, усмотрев во мне юного умника, не гнушающегося пасквилем и сатирой. Брата выпустили на свободу, но Ассамблея тут же издала очень странное постановление о том, что «отныне Джеймсу Франклину запрещается издавать газету «Вестник Новой Англии». Чтобы решить, как ему быть дальше, у нас в типографии собрались на совещание друзья. Кто-то из них предложил обойти это постановление, изменив название газеты, но брат усмотрел в этом неудобства, и был найден лучший выход: сделать издателем газеты Бенджамина Франклина, а чтобы Ассамблея не осудила его за то, что газету издает его ученик, решили вернуть мне мой старый договор, сделав на обороте надпись, что он меня отпускает вчистую. Эту надпись я при случае мог показать кому следует, а чтобы не лишить брата своих услуг, я подписал новый договор, уже не подлежащий оглашению. План был ненадежный, однако его немедля привели в исполнение, и несколько месяцев газета выходила под моим именем.
А потом, когда мы с братом опять повздорили, я попробовал утвердить свою независимость, предположив, что он не решится заговорить о новом договоре. С моей стороны это было нечестно, теперь я считаю это первой серьезной ошибкой в моей жизни, но в то время это меня мало смущало, гораздо ближе к сердцу я принимал его крутой нрав, хотя в общем-то человек он был не злой, скорее это я бывал слишком дерзок и мог хоть кого вывести из терпения.
Видя, что я его покидаю, брат принял меры к тому, чтобы мне не дали работы ни в одной из бостонских типографий, не поленился обойти всех мастеров, и те один за другим указали мне на дверь. Тогда я надумал податься в Нью-Йорк, ближайший город, где, как я знал, была типография; я и без того подумывал, что с Бостоном пора расстаться: я успел подпортить свою репутацию в глазах партии, стоявшей у власти, и, судя по тому, как Ассамблея расправилась с моим братом, имел основания ожидать, что вскоре и у меня начнутся крупные неприятности; к тому же вследствие моих неосторожных замечаний о религии добрые люди уже стали показывать на меня пальцем как на еретика и безбожника. И я решил скрыться. Но на этот раз отец принял сторону брата, я понимал, что, вздумай я уехать открыто, мне сумеют помешать. И тогда мой приятель Коллинз взялся мне помочь. Он договорился с капитаном одного шлюпа, что тот доставит меня в Нью-Йорк, потому что я его друг, и якобы от меня забеременела одна беспутная девица, ее друзья грозят женить меня насильно, а поэтому ни появляться на людях, ни уехать открыто я не могу. И вот я продал часть моих книг, чтобы иметь денег на дорогу, меня украдкой посадили на шлюп, и через три дня, при попутном ветре, я уже был в Нью-Йорке, в трехстах милях от дома, семнадцатилетний мальчишка без рекомендации, почти без денег и ни души в Нью-Йорке не знающий.
Глава II
Мои мечты о море к тому времени рассеялись, не то теперь я мог бы осуществить их. Но я успел овладеть ремеслом и, полагая себя изрядным работником, предложил свои услуги мистеру Уильяму Брэдфорду, который был первым печатником Пенсильвании, но уехал оттуда, поссорившись с Джорджем Китом. Работы он не мог мне дать, потому что заказов получал мало, а помощники у него и так были, но сказал: «У моего сына в Филадельфии недавно умер старший помощник, Аквила Роуз; поезжай к нему, думаю, у него найдется для тебя дело». До Филадельфии было еще сто миль, но я сразу пустился туда на лодке через Амбой, отправив мой сундук и прочие пожитки морем. Когда мы пересекали бухту, налетел шквал, порвал в клочья наши гнилые паруса и погнал нас к Лонг-Айленду. По пути один пьяный голландец, тоже пассажир, свалился за борт. Я за волосы вытащил его из воды обратно в лодку. От холодного купания он слегка протрезвился и скоро уснул, но предварительно достал из кармана какую-то книжку и просил меня ее высушить. Это оказался мой давнишний любимец, «Путешествие Пилигрима» Беньяна на голландском языке, прекрасно отпечатанный, на хорошей бумаге и с гравюрами, в таком нарядном издании он мне на своем родном языке не попадался. Позже я узнал, что книга эта переведена почти на все европейские языки и читают ее больше, чем любую другую книгу, за исключением разве Библии. Сколько я знаю, наш славный Джон Беньян первым стал перемежать повествование диалогом, и эта метода любезна читателю, он в самых интересных местах начинает ощущать себя как бы собеседником, участником событий. Дефо с успехом употреблял тот же прием в своем «Робинзоне Крузо» и «Молль Флендерс», в «Религиозном сватовстве», «Семейном наставнике» и других сочинениях. То же делает Ричардсон в «Памеле» и др.
Приблизившись к Лонг-Айленду, мы увидели, что высадиться в этом месте невозможно, берег был скалистый и прибой очень сильный. Мы бросили якорь и стали под ветер. Какие-то люди окликнули нас с берега, мы ответили, но за шумом ветра и прибоя не могли расслышать друг друга. На берегу виднелось несколько рыбачьих лодок, мы кричали и знаками просили выслать их за нами, но рыбаки либо не понимали нас, либо решили, что выполнить нашу просьбу не могут, и наконец ушли; тем временем уже темнело, и нам оставалось только ждать, когда ветер утихнет. Мы с хозяином лодки решили пока поспать, если удастся, и через люк забрались вниз, к нашему голландцу, который до сих пор не высох, потому что вода перекатывалась через борт нашей лодки и протекала к нам, так что скоро мы стали такие же мокрые, как и он. Так мы провели всю ночь, весьма, надо сказать, беспокойно, но наутро ветер стих, и нам удалось добраться до Амбоя, проведя в море тридцать часов без еды, а для питья имея только бутылку прескверного рома, потому что вода в заливе была соленая.
К вечеру я почувствовал сильный озноб и вынужден был лечь, но я читал где-то, что лихорадка отпускает, если выпить побольше холодной воды, и так и поступил; всю ночь я пропотел, к утру мне стало легче, и я, переправившись на пароме, пошел дальше пешком пятьдесят миль до Берлингтона, где, как мне сказали, можно найти лодку, которая доставит меня в Филадельфию.
Весь тот день лил дождь; я промок до нитки, к полудню очень устал и остановился на ночлег в плохонькой харчевне, с сожалением подумав, что не следовало мне, пожалуй, уходить из дому. Вид у меня был такой жалкий, что по вопросам, какие мне задавали, я понял, что меня принимают за слугу, сбежавшего от хозяина, и по этому подозрению в любую минуту могут схватить. Однако утром я двинулся дальше и к вечеру, не доходя миль восемь или десять до Берлингтона, добрался до гостиницы, которую содержал некий доктор Браун. Пока я ужинал, он вступил со мной в разговор и, убедившись, что я много читал, проникся ко мне дружескими чувствами. Знакомство наше продолжалось до самой его смерти. В прошлом он, очевидно, был странствующим лекарем. Не было того города в Англии и той страны в Европе, о которых он не мог бы рассказать во всех подробностях. Он был хорошо образован, остроумен, но большой нечестивец и через несколько лет после нашей встречи задумал пересказать Библию стишками подобно тому, как Коттон проделал это с Вергилием. Многие факты он изобразил весьма забавно, и работа его, будь она опубликована, могла бы поколебать кое-какие шаткие верования, но она так и не увидела света.
Ту ночь я провел в его доме, а наутро дошел до Берлингтона, но там, к великому своему огорчению, узнал, что перед самым моим приходом лодки, регулярно курсирующие до Филадельфии, ушли, новых не ждут раньше вторника, а была суббота; поэтому я вернулся в город, к одной старой женщине, у которой закупил в дорогу имбирных пряников, и спросил ее совета, как мне теперь быть. Она предложила мне пока пожить у нее, и я согласился, потому что очень уж устал от пешего хождения. Узнав, что я типографщик, она даже подала мне мысль поселиться здесь и заняться моим ремеслом, не зная, что для этого требуется обзаведение. Она была очень гостеприимна, радушно накормила меня супом из бычьей головы, а в уплату взяла только жбан эля, и я успокоился, что до вторника не пропаду. Но вечером, когда я прогуливался у реки, к пристани причалила большая лодка, и оказалось, что она следует в Филадельфию. Меня взяли на борт пассажиром, и так как ветра не было, мы всю дорогу гребли; а около полуночи некоторые мои спутники, раньше не бывавшие в Филадельфии, заявили, что по всей вероятности мы проплыли мимо, и отказались грести дальше; другие просто не знали, где мы находимся, и вот мы повернули к берегу, зашли в небольшую бухточку, причалили у какого-то старого забора и, надергав из него жердей на дрова, развели костер (ночь была холодная, как всегда в октябре) и так просидели до рассвета. Когда же рассвело, кто-то сообразил, где мы: Филадельфия находилась чуть ниже по течению, мы увидели ее, едва вышли из бухточки, и, прибыв туда в воскресенье утром, часов в восемь или девять, высадились на пристани у Рыночной улицы.
Я для того так подробно описал это мое путешествие и намерен столь же подробно описать мои первые дни в Филадельфии, чтобы ты мог сопоставить столь мало обнадеживающее начало с тем, какого положения я там впоследствии достиг. Я был в рабочем платье, лучший мой костюм еще не прибыл. Я был весь грязный с дороги, карманы, набитые рубашками и чулками, оттопырились, и я понятия не имел, где искать пристанища. Я обессилел от ходьбы, гребли и беспрестанного передвижения; был очень голоден, а денег имел один голландский доллар и около шиллинга медью. Эту мелочь я отдал за проезд хозяину лодки, он сначала не хотел их брать, потому что я, мол, помогал грести, но я настоял. Когда у человека мало денег, он бывает щедрее, нежели когда имеет их много, – потому, возможно, что боится, как бы его не приняли за бедняка.
Потом я пошел по улице, глядя по сторонам, и возле рынка встретил мальчика, который нес хлеб. Мне уже приходилось питаться одним хлебом, и узнав у мальчика, где он его купил, я тут же направился в пекарню на Второй улице и спросил сухарей, имея в виду такие, как делали у нас в Бостоне, но оказалось, что здесь такими не торгуют; когда я попросил хлебец за три пенни, мне сказали, что хлебцев таких нет. Тогда я, не зная ни сортов хлеба, ни цен, попросил пекаря дать мне чего угодно на три пенни, и он дал мне три огромные пышные булки. Я удивился, что получилось так много, но забрал все, две булки сунул под мышку, а третью тут же начал есть. Так я прошел всю Рыночную до Четвертой улицы, между прочим, прошел мимо дома мистера Рида, моего будущего тестя, а дочь его, стоявшая на пороге, увидела меня и нашла, что вид у меня самый нелепый и уморительный, как оно, несомненно, и было. Потом я, не переставая жевать, свернул на Каштановую улицу, с нее на Ореховую и, сделав круг, опять очутился на пристани возле своей лодки, куда и заглянул выпить воды. Насытившись к тому времени одной булкой, я отдал две другие женщине с ребенком, которая приехала сюда вместе с нами и собиралась плыть дальше на той же лодке.
Подкрепившись, я опять пошел вверх по Рыночной улице, но теперь по ней, в ту же сторону, что и я, двигалось много чисто одетых людей. Я влился в этот поток, и он принес меня в молитвенный дом квакеров возле рынка. В молитвенном доме я, оглядевшись, сел на скамью и, так как никто ничего не говорил, а у меня глаза слипались после столь беспокойной ночи, скоро крепко уснул и проспал все собрание до конца, когда какой-то добрый человек разбудил меня. Это был первый дом в Филадельфии, в который я вошел и где я спал.
Опять возвращаясь к реке и разглядывая прохожих, я встретил молодого квакера, чье лицо мне понравилось, и обратился к нему с вопросом, не знает ли он, где можно остановиться приезжему. Мы как раз стояли возле вывески «Трех матросов», и он сказал: «Вот и здесь принимают приезжих, но дом этот пользуется дурною славой. Пойдем со мной, я покажу тебе место получше». И он привел меня в «Веселый постой», что на Водной улице. Здесь мне подали обед, и, пока я ел, мне задали кое-какие хитрые вопросы, из которых я понял, что меня, судя по моему виду и возрасту, приняли за какого-то слугу или ученика, сбежавшего от хозяина.
После обеда мне снова захотелось спать; мне указали постель, я лег не раздеваясь и проспал до шести часов, когда позвали ужинать, а потом опять лег и крепко проспал до следующего утра. Утром же как мог умылся, почистился и пошел к типографщику Эндрю Брэдфорду. У него я застал его старого отца, которого видел в Нью-Йорке. Он попал в Филадельфию раньше меня, потому что ехал верхом. Он представил меня сыну, и тот принял меня учтиво и накормил завтраком, однако сказал, что помощник ему сейчас не требуется, только что нанят; но в городе есть еще один печатник, некто Кеймер, тот недавно здесь обосновался и, возможно, возьмет меня; если же нет, он предлагает мне пока пожить у него в доме, и он будет по мере надобности поручать мне кое-какую работу.
Старик взялся отвести меня к новому типографщику и сказал ему: «Сосед, я привел вам молодого человека, обученного нашему делу, может быть, он вам пригодится». Кеймер задал мне кое-какие вопросы, потом дал в руки верстатку, посмотреть, как я работаю, а потом сказал, что вскоре возьмет к себе, хотя сейчас работы для меня нет; и, решив, что старый Брэдфорд, а он его раньше никогда не видел, особенно к нему расположен, принялся описывать ему свое положение и планы на будущее. А Брэдфорд, утаив, что он отец второго здешнего печатника, и услышав от Кеймера, что тот намерен в ближайшее время прибрать к рукам чуть не все типографское дело, ловко выманил у него всевозможные сведения касательно его видов, и на чью помощь он рассчитывает, и как думает действовать. Я стоял тут же, слышал все это и сразу смекнул, что один их них – прожженный старый интриган, а другой – неопытный новичок. Потом Брэдфорд ушел, а Кеймер весьма удивился, узнав от меня, кто был этот старик.
Как выяснилось, все обзаведение Кеймера состояло из ветхого, расхлябанного печатного станка и небольшого комплекта стершихся английских литер, и все это сейчас нужно было ему самому, так как он в это время набирал «Элегию на смерть Аквилы Роуза», о котором я уже упоминал, – это был образованный молодой человек примерного поведения, очень уважаемый в городе, служивший в Законодательной Ассамблее и приятный поэт. Кеймер и сам сочинял стихи, но очень посредственные. Нельзя сказать, что он их писал, – он выдумывал их и тут же набирал, и так как была у него всего одна касса и весь шрифт, похоже, должен был уйти на «Элегию», то помочь ему никто не мог. Я попробовал наладить его станок (которым он еще не пользовался и в котором ничего не смыслил) и, пообещав прийти и отпечатать его «Элегию», как только она будет готова, вернулся к Брэдфорду, а тот поручил мне небольшую работу и предложил пока жить и столоваться у него. Через несколько дней Кеймер послал за мной и просил отпечатать «Элегию». Теперь у него освободилась вторая касса и требовалось напечатать какой-то памфлет, на каковую работу он меня и поставил.
Оба эти типографщика были плохими мастерами. Брэдфорд не обучался ремеслу сызмальства и был очень безграмотен; а Кеймер, хотя и получил кое-какое образование, был всего лишь наборщиком, в тиснении же не знал толку. В прошлом он принадлежал к французским пророкам и умел подражать их ревностному красноречию. Ко времени нашего знакомства он не причислял себя ни к какому определенному вероисповеданию, но при случае высказывался в любом смысле, очень плохо знал жизнь и, как я впоследствии убедился, был изрядным мошенником. Ему не нравилось, что я, работая у него, живу у Брэдфорда. Сам он снимал целый дом, но не обставленный, так что не мог меня там поселить, но устроил мне жилье у вышеупомянутого мистера Рида, у того был собственный дом. И так как мои вещи наконец прибыли, мой внешний вид показался мисс Рид не столь смехотворным, как в тот день, когда ей довелось увидеть, как я иду по улице и ем булку.
Я начал заводить знакомства среди местных молодых людей, любителей чтения, весьма приятно проводил с ними вечера и, зарабатывая деньги усердием в работе и воздержанием, жил в свое удовольствие, стараясь поменьше думать о Бостоне и вовсе не желая, чтобы кто-нибудь из тамошних жителей узнал, где я нахожусь, за исключением моего друга Коллинза, которого я посвятил в мою тайну, и он свято хранил ее после того как получил мое письмо. Но случилось одно обстоятельство, заставившее меня вернуться в Бостон намного раньше, чем я намеревался. Один из моих зятьев, Роберт Холмс, был хозяином шлюпа, на котором вел торговлю между Бостоном и Делавэром. Однажды, будучи в Ньюкасле, что в сорока милях ниже Филадельфии, он там прослышал обо мне и написал мне письмо, в котором рассказал, как огорчил моих бостонских друзей мой внезапный отъезд, уверял меня в добром их ко мне расположении и горячо доказывал, что стоит мне вернуться домой, и все уладится согласно моим желаниям. В ответном письме я поблагодарил его за совет и подробно разъяснил, какие причины заставили меня расстаться с Бостоном, чтобы он понял, что я не так виноват, как ему кажется.
В ту пору в Ньюкасле находился сэр Уильям Кит, губернатор провинции, и случилось так, что мое письмо подали Холмсу в его присутствии. Холмс рассказал ему обо мне и показал письмо. Губернатор прочел его и выразил удивление, когда узнал, сколько мне лет. Он сказал, что я, как видно, подаю надежды, а значит, достоин поощрения. Филадельфийские печатники никуда не годятся, и если я надумаю открыть там свою типографию, он не сомневается в успехе. Сам же он берется поручать мне все заказы из подведомственных ему учреждений и вообще оказывать мне всемерную поддержку. Все это мой зять рассказал мне много позже, уже в Бостоне, но тогда я ничего об этом не знал, и вот однажды, когда мы с Кеймером работали у окна, мы увидели, как губернатор, а с ним еще один господин (как оказалось – полковник Френч из Ньюкасла), оба роскошно одетые, пересекли улицу прямо к дверям нашего дома.
Кеймер поспешно сбежал вниз, вообразив, что это пришли к нему, но губернатор сказал, что ему нужен я, поднялся в типографию и с учтивостью и снисходительностью, совершенно для меня непривычными, наговорил мне любезностей, выразил желание со мной познакомиться, пожурил, зачем не побывал у него, когда только прибыл в Филадельфию, и предложил пойти с ним в харчевню, куда он направлялся с полковником Френчем, чтобы отведать, как он выразился, превосходной мадеры. Я был этим немало удивлен, а у Кеймера прямо глаза на лоб полезли. Однако я отправился с губернатором и полковником Френчем в харчевню на углу Третьей улицы, и там, за мадерой, губернатор предложил мне открыть собственное дело, обрисовал, какие возможности это мне сулит, и в один голос с полковником Френчем стал заверять, что употребит все свое влияние, чтобы обеспечить меня заказами как по гражданской, так и по военной части. Когда я выразил сомнение в том, поддержит ли меня отец, сэр Уильям пообещал дать мне письмо, в котором изложит все выгоды своего предложения, так что отец мой, конечно же, даст себя уговорить. Так и было решено, что я вернусь в Бостон первым же кораблем, какой туда пойдет, с рекомендательным письмом моему отцу от губернатора провинции. А тем временем мы сговорились держать наши планы в секрете, и я продолжал работать у Кеймера, а губернатор изредка присылал звать меня к обеду, что я почитал за большую честь, и беседовал со мной до крайности благосклонно и участливо.
В конце апреля 1724 года стало известно, что в Бостон снаряжается небольшое судно. Я простился с Кеймером, сказав, что еду навестить родных. Губернатор вручил мне объемистое письмо, в коем написал отцу много лестного обо мне и усиленно советовал помочь мне обосноваться в Филадельфии и таким образом нажить состояние. В заливе мы наскочили на мель, и наше суденышко дало течь, почти всю дорогу мы откачивали воду, в чем и я участвовал наравне с другими. Впрочем, через две недели мы прибыли-таки в Бостон целы и невредимы. Я пробыл в отсутствии семь месяцев, и никто ничего обо мне не знал, ибо Холмс еще не вернулся и не писал о нашей встрече. Неожиданное мое появление очень удивило всю семью, но все были рады меня увидеть и встретили дружески, все, кроме моего брата. Я пришел к нему в типографию, одет я был лучше, нежели когда работал под его началом, с головы до ног во всем новом, при часах, и в карманах около пяти фунтов стерлингов серебром. Брат встретил меня не слишком ласково, окинул взглядом и вернулся к прерванной работе.
Подмастерья стали меня расспрашивать, где я побывал, какие там места да как мне там понравилось. Я расхвалил Филадельфию, сказал, что жилось мне там отменно, и выразил твердое намерение воротиться туда; а когда один из них спросил, какие там деньги, достал из кармана пригоршню серебра и разложил перед ними. Им это было в диковину, ведь они привыкли к бумажным деньгам, какие ходили в Бостоне. Потом я дал им разглядеть мои часы и наконец (видя, что брат продолжает дуться) подарил им испанский доллар на выпивку и откланялся. Это мое посещение очень его разобидело. Когда мать через некоторое время завела речь о примирении, о том, чтобы впредь мы жили дружно, как подобает братьям, он заявил, что я так оскорбил его при его работниках, что он этого никогда не забудет и не простит. В этом он, однако, ошибся.
Моего отца письмо губернатора как будто удивило, но в первые дни он со мной об этом почти не говорил, а тут вернулся капитан Холмс, и отец показал ему письмо и, спросив, знаком ли он с Китом и какого о нем мнения, добавил от себя, что, на его взгляд, недальновидно предоставлять самостоятельность юнцу, которому недостает еще трех лет до того, чтобы считаться мужчиной. Холмс сказал, что мог, в поддержку губернаторских планов, но отец настаивал, что дело это неподобающее, и наконец наотрез отказался мне содействовать, после чего написал сэру Уильяму учтивое письмо, поблагодарил за покровительство, оказанное сыну, но в поддержке отказал, ибо я-де слишком молод, чтобы доверить мне руководство делом столь важным и требующим для начала столь больших расходов.
Мой приятель Коллинз, служивший по почтовому ведомству, прельщенный моими рассказами о Филадельфии, решил тоже туда переселиться и, пока я ждал, что решит отец, первым отбыл сухопутной дорогой в Род-Айленд, а свои книги – труды по математике и натурфилософии – просил меня доставить вместе с моими книгами в Нью-Йорк, где обещал меня дождаться.
Мой отец, хоть и не одобрил предложения сэра Уильяма, был доволен, что я получил столь лестный отзыв от столь высокопоставленного лица и что я, проявив усердие и осмотрительность, сумел за такой короткий срок так славно снарядиться; поэтому, потеряв надежду помирить меня с братом, он разрешил мне вернуться в Филадельфию, посоветовал вести себя там скромно, по мере сил заслужить всеобщее уважение и воздерживаться от клеветы и пасквилянтства, к чему я, по его мнению, чересчур склонен; я сказал, что к тому времени, когда мне исполнится двадцать один год, я, при должном усердии и бережливости, могу, вероятно, накопить достаточно денег на собственное обзаведение, а если немного не хватит, то он доложит. Вот и все, чего я добился, если не считать небольших подарков, врученных мне в знак родительской любви, когда я опять отплывал в Нью-Йорк с его и матери согласия и благословения.
В Ньюпорте на Род-Айленде, где шлюп делал остановку, я навестил моего брата Джона, который женился и жил там уже несколько лет. Он встретил меня очень ласково, потому что всегда меня любил. Один его приятель, некто Вернон, которому кто-то в Пенсильвании задолжал тридцать пять фунтов, попросил меня взыскать за него эти деньги и подержать у себя до тех пор, пока он не даст мне знать, как их возместить. Для этого он дал мне доверенность. А я впоследствии хлебнул горя с его деньгами.
В Ньюпорте мы взяли на борт много пассажиров до Нью-Йорка, среди них были две молодые женщины, ехавшие вместе, и почтенная, рассудительная квакерша со служанкой. Я охотно оказывал ей кое-какие мелкие услуги, чем, видимо, и заслужил ее благосклонность, ибо она, заметив, что я день ото дня провожу все больше времени с теми двумя женщинами, а они явно это приветствуют, отвела меня однажды в сторонку и сказала: «Молодой человек, я за тебя не спокойна, у тебя нет надежного спутника, а ты, видно, неопытен в жизни и не знаешь, какие ловушки подстерегают молодость. Поверь мне, эти женщины очень дурные, я это вижу по их повадкам; и если ты не остережешься, они и тебя втянут в дурные дела: ты с ними незнаком, и я, ради твоего же блага, советую тебе не общаться с ними». Я сперва не придал значения ее словам, но она упомянула о некоторых не замеченных мною мелочах, известных ей либо из собственных наблюдений, либо из разговоров, и тогда я понял, что она права. Я поблагодарил ее за совет и обещал ему последовать. Когда мы подходили к Нью-Йорку, те женщины дали мне свой адрес и звали заходить; но я уклонился и хорошо сделал: наутро капитан заметил, что из его каюты пропала серебряная ложка и еще кое-какие вещи, и, зная, что девицы эти гулящие, он получил ордер на обыск их жилища, нашел пропавшие вещи и добился, чтобы воровки были наказаны. И я подумал, что легко отделался: ведь мне грозила опасность посерьезнее тех подводных камней, на которых мы чуть не застряли по дороге.
В Нью-Йорке я отыскал моего приятеля Коллинза, прибывшего туда раньше меня. Мы с ним дружили с детства, вместе читали одни и те же книги; но у него всегда было больше времени для чтения и занятий, да к тому же редкие способности к математике, о каких я не мог и мечтать. Пока я жил в Бостоне, я проводил с ним почти все свободное время, и он показал себя юношей трезвым и трудолюбивым; некоторые духовные лица и другие образованные люди уважали его за ученость, и будущее его, казалось, было обеспечено. Однако после моего отъезда он пристрастился к вину, а с тех пор как прибыл в Нью-Йорк, каждый день напивался пьян и вел себя очень странно, о чем я узнал как от него самого, так и от других. К тому же он играл и проигрывал, так что мне пришлось и по пути в Филадельфию, и по прибытии туда платить за его жилье и нести другие расходы, очень для меня обременительные.
Тогдашний губернатор Нью-Йорка Бэрнет (сын епископа Бэрнета), узнав от нашего капитана, что среди его пассажиров есть молодой человек, который везет с собой много книг, просил привести меня к нему. Я побывал у него и взял бы с собой Коллинза, но он был нетрезв. Губернатор принял меня весьма любезно, показал мне свою богатейшую библиотеку, и мы с ним долго беседовали о книгах и писателях. Это был уже второй губернатор, соизволивший обратить на меня внимание, что для меня, неимущего юноши, было очень лестно.
Мы отправились дальше, в Филадельфию. По пути я получил деньги Вернона, без которых не знаю как бы мы добрались до места. Коллинз рассчитывал получить работу в какой-нибудь конторе, но о пороке его все догадывались либо по его дыханию, либо по разговору, и, хотя он имел рекомендательные письма, хлопоты его оставались безуспешны, так что он по-прежнему жил и столовался у меня и за мой счет. Зная, что я храню деньги Вернона, он то и дело просил у меня взаймы и клялся, что расплатится, как только устроится на работу. Он перебрал у меня уже так много из этих денег, что я с ужасом думал о том, как мне быть в случае, если Вернон их востребует.
Пить он не бросил, из-за чего у нас случались ссоры, потому что он, когда навеселе, вел себя очень своенравно. Однажды, катаясь в лодке по Делавэру со мной и с другими молодыми людьми, он отказался грести в свой черед. «Пусть, – говорит, – меня везут домой». – «Нет, – говорю я, – мы тебя не повезем». – «И не надо, – говорит, – оставайтесь на реке хоть всю ночь». Другие сказали: «Бог с ним, это не важно, давайте грести». Но я был уже так раздосадован, что продолжал упираться. Тогда он поклялся, что либо заставит меня грести, либо выкинет за борт, и, добравшись ко мне по банкам, набросился на меня. Я подхватил его под колено, поднялся и швырнул его вниз головой в воду. Я знал, что он хорошо плавает, поэтому не очень о нем тревожился; но не дав ему времени повернуться, чтобы ухватиться за лодку, мы несколькими ударами весел отвели ее в сторону, а потом, стоило ему приблизиться, спрашивали, намерен ли он грести, и опять ускользали. Он чуть не плакал от обиды, однако грести не обещал. Наконец, увидев, что он выбился из сил, мы втащили его в лодку и к вечеру доставили домой, промокшего до нитки. После этого мы перестали с ним разговаривать. А вскоре его встретил некий шкипер, ходивший в Вест-Индию, которому было поручено привезти на Барбадос учителя для сыновей одного тамошнего богача, и предложил отвезти его туда. Тут он распростился со мной, пообещав в счет долга первые же деньги, какие получит за работу, но больше я о нем никогда не слышал.
То, что я тратил деньги Вернона, было одной из первых серьезных ошибок в моей жизни, и вся эта история доказывает, что мой отец был недалек от истины, когда счел меня слишком молодым, чтобы возглавить собственное дело. Однако сэр Уильям, прочитав его письмо, заявил, что он зря осторожничает. Люди, мол, бывают разные, и благоразумие не всегда приходит с годами, а иным свойственно с юности. «Раз отец не хочет поставить тебя на ноги, – сказал он, – я сам это сделаю. Подай мне список всего, что нужно закупить в Англии, я пошлю туда человека. Расплатишься, когда сможешь. Я твердо решил иметь здесь хорошего типографщика и уверен, что ты добьешься успеха». Это было сказано таким сердечным тоном, что я ни на минуту не усомнился в его искренности. До сих пор я никому в Филадельфии не рассказывал о предложении Кита и теперь продолжал молчать об этом. Если б стало известно, что мое будущее зависит от губернатора, кто-нибудь, кто знал его лучше меня, вероятно, посоветовал бы мне не полагаться на его слова: позже-то я узнал, что он не скупится на обещания, которых и не собирается выполнять. Но ведь я ни о чем его не просил, как же я мог заподозрить, что его великодушное предложение – пустые слова? Я считал, что лучше его нет человека на свете.






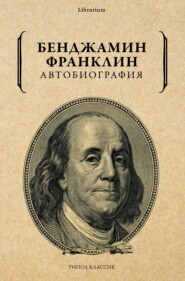

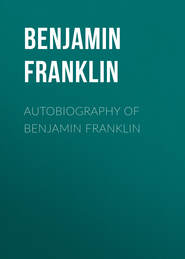

![Memoirs of Benjamin Franklin; Written by Himself. [Vol. 2 of 2]](/covers_185/24858395.jpg)