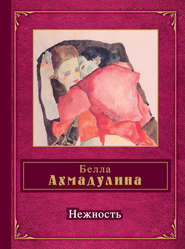По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихотворения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под Богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты – два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты – две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты – одна. Тебе – подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотеченье звука.
Марина, до! До – детства, до – судьбы,
до – ре, до – речи, до – всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вкруг головы окружность.
Марина, это всё – для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я – как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да – плачу.
«Четверть века, Марина, тому…»
Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.
Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача.
Две бессмыслицы – мёртв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.
И усильем двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под Богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты – два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты – две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты – одна. Тебе – подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотеченье звука.
Марина, до! До – детства, до – судьбы,
до – ре, до – речи, до – всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вкруг головы окружность.
Марина, это всё – для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я – как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да – плачу.
«Четверть века, Марина, тому…»
Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.
Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача.
Две бессмыслицы – мёртв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.
И усильем двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.