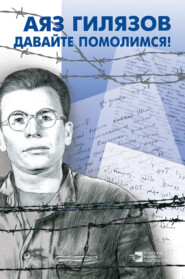По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
При свете зарниц (сборник)
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Махибэдэр ничего не ответила. Исхак, пожелав матери спокойной ночи, вышел в сени. Напившись воды из ведра, ощупью прошёл в чулан, бросился на постель.
По крыше шелестел дождь.
Исхак проснулся рано. Зулейха-апа доила корову в хлеву, слышно было, как бьют о стенки подойника звонкие струйки, как жуёт жвачку корова и Зулейха-апа покрикивает на неё, чтобы стояла спокойно. Исхак поёжился от утренней сырости и, схватив полотенце, побежал на речку.
Ночной дождь хорошо промочил землю. Кто-то проехал по лугу на телеге, ошмётки грязи с колёс упали на зелёную грудь земли, словно багровые следы плети.
Кто только во все времена не оставлял на зелёной груди земли чёрных следов!.. Но эти следы до другого дождя – прольётся и смоет чёрные отмётки, под которыми потухла молодая трава…
Вдоволь поплескавшись в воде, Исхак бегом вернулся домой. Мать уже проснулась, но ещё не вставала, следила хмурыми глазами, как сын надевает белую рубашку, галстук, гладко зализывает перед зеркалом чёрные волосы. Исхак улыбнулся матери:
– Я скоро приду.
Выйдя на улицу, он глянул на розовое солнце, поднимавшееся из-за домов, и зашагал в Верхний конец, к Хусаину.
«Вернись к истоку…» – шептала ему родная земля.
Три аршина земли
1
О том, что в четвёртом вагоне случилась беда, пассажиры узнали по радио. Вдруг прервалась на полуслове передача какой-то слащавой, убаюкивающей песенки и поездной радист трижды кряду повторил:
– Если среди пассажиров есть врач или фельдшер, просьба срочно пройти в четвёртый вагон!
В купе и коридорах засуетились. Посыпались предположения и догадки… Единственный человек, имевший отношение к медицине, ехал в самом хвосте поезда, в тринадцатом вагоне. Это была фельдшерица, уже в годах, направлявшаяся в Сочи. Радуясь тому, что на целый месяц избавилась от своих хлопотливых обязанностей, наслаждаясь покоем, она почти целый день спала и видела хорошие сны. Многократные призывы радиста придали смелости её спутникам. Они сначала осторожненько окликнули её, а потом принялись трясти.
– Вставайте. Пожалуйста! Проснитесь!..
Фельдшерица, должно быть, привыкла к тому, что её могут разбудить в любое время. Не вздрогнула, не удивилась. Приподнялась, села. Посмотрела на гряду бегущих за окном стройных сосен:
– Казань, что ли?
Она попросила соседей будить её на больших станциях.
– До Казани далеко ещё, – ответили ей. – Да вот беда тут приключилась…
В репродукторе, умолкшем на время, вновь зашуршало, и фельдшерица услышала умоляющий голос радиста:
– В четвёртый вагон… в четвёртый вагон…
Она проворно сбросила простыню, сдёрнула с крюка белоснежный платок, повязалась, мельком оглядев себя в зеркало, поправила воротничок и решительно шагнула к выходу.
В четвёртом вагоне бригадир поезда и проводники обступили в коридоре мужчину, курившего папиросу за папиросой.
– Так ведь трое суток уже едем! Трое суток! – который раз досадливо повторял бригадир. – Чтоб тебе прийти и сказать, что жена больна? Язык отсох, что ли?
Больше всех горячилась проводница четвёртого вагона, низенькая, кругленькая, словно мячик, толстушка.
– Скажет, жди! Он и меня-то, когда я вмешалась, крыл на чём свет стоит. Жена того гляди умрёт, а у него и думушки нет. Встанет с зорькой, облапит себя за плечи и дымит, и дымит… Весь вагон провонял своим табачищем!
Её дружно поддержали, кто-то философски заключил:
– Да, поезд не вертолёт. Не повернёт, куда хочешь. Проложили тебе, стало быть, рельсы, вот и катишь и катишь по ним…
Мужчину звали Мирвали.
Он молча слушал сыпавшиеся на него упрёки и, управившись с одной папиросой, прикуривал от неё другую. А если кто-либо из говоривших подходил слишком близко, он закрывал ухо левой рукой. Его угрюмая и немая строптивость вывела железнодорожников из себя, они начали кричать пуще прежнего:
– Жена ведь, жена!
– Не сердце, видать, у него, а камень!..
Мирвали повернулся к тому, кто сказал о его жене. Густые сросшиеся брови вдруг шевельнулись:
– Зря вы тут расшумелись!
Бригадир поезда взмахнул руками.
– Здесь шуметь мало!.. Взял больного человека в такую дальнюю дорогу! Тут и здоровому-то, ой-ой, как достаётся.
– С какой совестью повёз ты её в этакую даль? – возмущалась толстуха проводница, наступая на Мирвали, словно норовя боднуть его высокой грудью.
– Сама захотела!
– Знаем мы вас, мужчин! Всегда у вас жёны виноваты…
Бригадир жестом предложил ей помолчать и начал усовещивать Мирвали:
– Сказал бы вовремя, давно бы устроили в хорошую больницу.
– Чтоб поскорее избавиться?
– Вот и поразговаривай с ним! – Опять вмешалась проводница.
– Кто вас звал? – огрызнулся Мирвали. – Что вы привязались ко мне?… Поговорите с ней самой, спросите, почему едет в такую даль. Или думаете…
– Кто же кого везёт? – насмешливо спросил бригадир.
– Кто кого, спрашиваете?… – Глаза Мирвали горели, будто раскалённые угли. – С этого и надо было начинать!.. Эх вы!..
Фельдшерица открыла и закрыла двадцать дверей, пока наконец добралась до четвёртого вагона. По тому, как уверенно ступала она, собравшиеся поняли, что идёт самый нужный в эту минуту человек. Расступились, чтобы дать ей дорогу.
– Я фельдшер. Где больной?
Бригадир выступил вперёд:
– Мы уже совсем потеряли было надежду…
По крыше шелестел дождь.
Исхак проснулся рано. Зулейха-апа доила корову в хлеву, слышно было, как бьют о стенки подойника звонкие струйки, как жуёт жвачку корова и Зулейха-апа покрикивает на неё, чтобы стояла спокойно. Исхак поёжился от утренней сырости и, схватив полотенце, побежал на речку.
Ночной дождь хорошо промочил землю. Кто-то проехал по лугу на телеге, ошмётки грязи с колёс упали на зелёную грудь земли, словно багровые следы плети.
Кто только во все времена не оставлял на зелёной груди земли чёрных следов!.. Но эти следы до другого дождя – прольётся и смоет чёрные отмётки, под которыми потухла молодая трава…
Вдоволь поплескавшись в воде, Исхак бегом вернулся домой. Мать уже проснулась, но ещё не вставала, следила хмурыми глазами, как сын надевает белую рубашку, галстук, гладко зализывает перед зеркалом чёрные волосы. Исхак улыбнулся матери:
– Я скоро приду.
Выйдя на улицу, он глянул на розовое солнце, поднимавшееся из-за домов, и зашагал в Верхний конец, к Хусаину.
«Вернись к истоку…» – шептала ему родная земля.
Три аршина земли
1
О том, что в четвёртом вагоне случилась беда, пассажиры узнали по радио. Вдруг прервалась на полуслове передача какой-то слащавой, убаюкивающей песенки и поездной радист трижды кряду повторил:
– Если среди пассажиров есть врач или фельдшер, просьба срочно пройти в четвёртый вагон!
В купе и коридорах засуетились. Посыпались предположения и догадки… Единственный человек, имевший отношение к медицине, ехал в самом хвосте поезда, в тринадцатом вагоне. Это была фельдшерица, уже в годах, направлявшаяся в Сочи. Радуясь тому, что на целый месяц избавилась от своих хлопотливых обязанностей, наслаждаясь покоем, она почти целый день спала и видела хорошие сны. Многократные призывы радиста придали смелости её спутникам. Они сначала осторожненько окликнули её, а потом принялись трясти.
– Вставайте. Пожалуйста! Проснитесь!..
Фельдшерица, должно быть, привыкла к тому, что её могут разбудить в любое время. Не вздрогнула, не удивилась. Приподнялась, села. Посмотрела на гряду бегущих за окном стройных сосен:
– Казань, что ли?
Она попросила соседей будить её на больших станциях.
– До Казани далеко ещё, – ответили ей. – Да вот беда тут приключилась…
В репродукторе, умолкшем на время, вновь зашуршало, и фельдшерица услышала умоляющий голос радиста:
– В четвёртый вагон… в четвёртый вагон…
Она проворно сбросила простыню, сдёрнула с крюка белоснежный платок, повязалась, мельком оглядев себя в зеркало, поправила воротничок и решительно шагнула к выходу.
В четвёртом вагоне бригадир поезда и проводники обступили в коридоре мужчину, курившего папиросу за папиросой.
– Так ведь трое суток уже едем! Трое суток! – который раз досадливо повторял бригадир. – Чтоб тебе прийти и сказать, что жена больна? Язык отсох, что ли?
Больше всех горячилась проводница четвёртого вагона, низенькая, кругленькая, словно мячик, толстушка.
– Скажет, жди! Он и меня-то, когда я вмешалась, крыл на чём свет стоит. Жена того гляди умрёт, а у него и думушки нет. Встанет с зорькой, облапит себя за плечи и дымит, и дымит… Весь вагон провонял своим табачищем!
Её дружно поддержали, кто-то философски заключил:
– Да, поезд не вертолёт. Не повернёт, куда хочешь. Проложили тебе, стало быть, рельсы, вот и катишь и катишь по ним…
Мужчину звали Мирвали.
Он молча слушал сыпавшиеся на него упрёки и, управившись с одной папиросой, прикуривал от неё другую. А если кто-либо из говоривших подходил слишком близко, он закрывал ухо левой рукой. Его угрюмая и немая строптивость вывела железнодорожников из себя, они начали кричать пуще прежнего:
– Жена ведь, жена!
– Не сердце, видать, у него, а камень!..
Мирвали повернулся к тому, кто сказал о его жене. Густые сросшиеся брови вдруг шевельнулись:
– Зря вы тут расшумелись!
Бригадир поезда взмахнул руками.
– Здесь шуметь мало!.. Взял больного человека в такую дальнюю дорогу! Тут и здоровому-то, ой-ой, как достаётся.
– С какой совестью повёз ты её в этакую даль? – возмущалась толстуха проводница, наступая на Мирвали, словно норовя боднуть его высокой грудью.
– Сама захотела!
– Знаем мы вас, мужчин! Всегда у вас жёны виноваты…
Бригадир жестом предложил ей помолчать и начал усовещивать Мирвали:
– Сказал бы вовремя, давно бы устроили в хорошую больницу.
– Чтоб поскорее избавиться?
– Вот и поразговаривай с ним! – Опять вмешалась проводница.
– Кто вас звал? – огрызнулся Мирвали. – Что вы привязались ко мне?… Поговорите с ней самой, спросите, почему едет в такую даль. Или думаете…
– Кто же кого везёт? – насмешливо спросил бригадир.
– Кто кого, спрашиваете?… – Глаза Мирвали горели, будто раскалённые угли. – С этого и надо было начинать!.. Эх вы!..
Фельдшерица открыла и закрыла двадцать дверей, пока наконец добралась до четвёртого вагона. По тому, как уверенно ступала она, собравшиеся поняли, что идёт самый нужный в эту минуту человек. Расступились, чтобы дать ей дорогу.
– Я фельдшер. Где больной?
Бригадир выступил вперёд:
– Мы уже совсем потеряли было надежду…