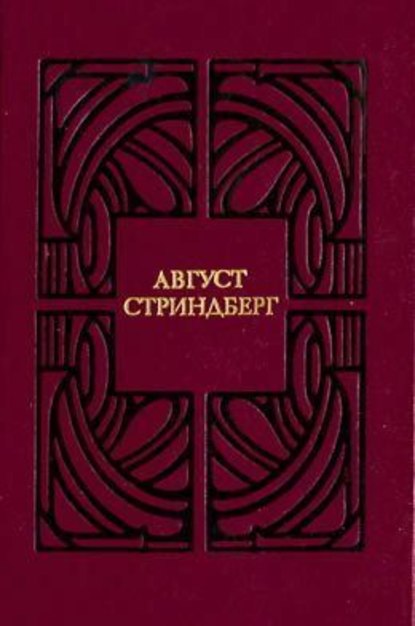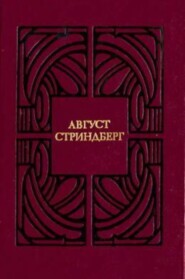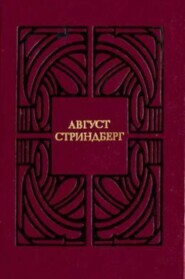По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Слово безумца в свою защиту
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я не узнаю ее. Она ведет себя как девушка, девственница. В минуты близости с любимой невозможна грубость, в единении душ нет места животному началу, и трудно определить, когда духовное слияние переходит в физическое.
Успокоенная недавно полученными советами врачей, она отдается мне пылко, целиком и испытывает высшее счастье, она исполнена блаженства, благодарности и поражает меня своей красотой. Глаза ее сияют. Моя жалкая мансарда преображается в храм, в роскошный дворец любви, и я зажигаю сломанную люстру, настольную лампу, свечи, все-все, чтобы ярче осветить царящие здесь гармонию и радость жизни, единственное, что придает хоть какой-то смысл нашему низменному существованию.
Только эти пленительные миги утоленной страсти, которые мы не забываем на протяжении всего нашего горестного пути, только память об этом блаженстве, неведомом ревнивцам, и делает бессмертной чистую любовь.
– Не говори ничего дурного о любви, – сказал я ей. – Относись с уважением к природе во всех ее проявлениях и чти господа бога, дарующего нам счастье помимо нашей воли.
А она и не говорит ничего, потому что полностью счастлива. Исступление, охватившее ее, бесследно прошло, сердце, возбужденное страстными объятиями, учащенно бьется, кровь потоком струится по жилам, на ожившем лице заиграли краски, в увлажненных слезами сладострастия зрачках отражается пламя свечей, а яркость радужки глаз подобна переливчатому оперению птиц в пору любви. Она кажется шестнадцатилетней девушкой, так безупречны и строги черты ее лица. А утопающая в подушке маленькая головка, обрамленная растрепанными волосами цвета спелой пшеницы, похожа на голову ребенка. Тело ее, скорее хрупкое, чем худое, под батистовой рубашкой, перехваченной мягким поясом, которая ниспадает, подобно греческому хитону, множеством складок на бедра, скрывая то, что должно быть скрыто, но обнажая колени, сквозь прозрачную кожу которых просвечивает сложное, причудливое переплетение таинственных жилок, словно похищенное у перламутровой раковины. Груди ее, как две козочки с розовыми носиками, прячутся за кружевами, будто за сеткой загона, а плечи будто выточены из слоновой кости, как, впрочем, и запястья…
Она лежит как изваяние, позирует, наслаждается тем, что я любуюсь ею, и вдруг потягивается, трет глаза и глядит на меня одновременно робким и бесстыжим взглядом.
Сколь целомудренна женщина, когда она, нагая, дарит свою любовь тому, кто ее боготворит. Увы, мужчина, как правило превосходящий женщину умом, оказывается счастливым только тогда, когда находит себе ровню. Теперь мои прежние похождения, любовные историйки с девицами из иной социальной среды, кажутся мне чем-то вроде скотских утех, падением, едва ли не преступлением и уж во всяком случае изменой себе и себе подобным. Неужели белая кожа, идеальная форма ног, безупречные ногти, один к одному, как клавиши фортепиано, или руки, лишенные мозолей, суть признаки дегенерации? Взгляните на диких зверей – лоснящаяся шкура, точеные лапы, больше нервов, чем мускулов – как они совершенны! Красота женщины лишь обещание ее внутренних качеств, которые должны быть проявлены, и они зависят от мужчины, от его уменья их оценить. Он – муж – выбросил эту женщину, можно сказать, на свалку, и с той минуты она ему больше не принадлежала, потому что перестала ему нравиться. Ее красота для него больше не существовала, мне выпало вновь оживить этот цветок, видимый только избранному.
Какая безмерная радость обладание любимой! Это чувство сравнимо лишь с удовлетворением, которое испытываешь, выполнив свой долг. И это подчас считается преступлением! Пленительное преступление, сладостное нарушение закона, божественное злодейство!
Сейчас пробьет полночь, сменится караул у казармы. Пора отвести возлюбленную домой.
Во время нашего долгого пути я обрушиваю на нее все свои вдохновенные замыслы, исполненные новых надежд, и фантастические планы, рожденные жаром наших объятий. Она прижимается ко мне, словно хочет набраться сил от этого физического прикосновения, и я счастлив вернуть ей то, что сам от нее получил. Наконец мы подходим к решетке ее сада, и тут она обнаруживает, что забыла ключ. Какое невезенье! Желая продемонстрировать ей свою храбрость, я очертя голову перелезаю через ворота, чтобы проникнуть в логово зверя, единым духом пересекаю двор и начинаю стучать в дверь дома, приготовившись к бурной встрече с бароном. Так как совесть у меня не чиста, я ликую от предстоящей стычки с соперником на глазах у любимой, благодаря которой Удачливый любовник превратится в героя! К счастью, дверь открывает служанка, и наше церемонное прощание происходит без ратных подвигов – она окинула нас презрительным взглядом и даже не удостоила меня ответом, когда я пожелал ей спокойной ночи.
Мария уже не сомневается в моей любви и злоупотребляет этим. Сегодня она пришла ко мне и с порога принялась безудержно расхваливать своего бывшего мужа, который, оказывается, убит горем оттого, что кузину отправили домой. Однако по просьбе баронессы, дабы спасти ее репутацию, барон согласился проводить ее на вокзал, куда и я приеду, и таким образом ее отъезд не будет выглядеть бегством из супружеского дома. Кроме того, барон, который, как выяснилось, не питает ко мне зла, обещал принять меня нынче вечером у себя, а чтобы прекратить все сплетни, готов в ближайшие же дни появиться вместе со мной на людях.
Оценив по достоинству великодушие этого наивного человека с открытым сердцем, я все же возмутился.
– Причинить ему такое бесчестье! Да никогда! – заявил я баронессе.
– Но если это делается в интересах моего ребенка! – возразила она.
– И все же, дорогая, честь барона тоже нельзя не учитывать!
Ей непонятно, что такое честь другого человека. А я в ее глазах фантазер.
– Хватит! Мало того, что вы доведете меня до безумия, вы хотите нас всех растоптать! Это нелепо, подло!
И она разражается рыданиями, которые делают ее неотразимой, и после часа, потраченного на слезы и обвинения, я в конце концов все обещаю, сдаю все свои позиции, хоть и злюсь на это деспотическое существо и проклинаю прозрачные, как хрусталь, капли, которые безгранично расширяют власть ее гипнотизирующих глаз.
Конечно, она сильнее, чем мы оба, вот она и куражится над нами, пока мы окончательно не потеряем своего лица. Чего ради она заставляет нас идти на эту фальшивую мировую? Она просто боится, что между соперниками начнется борьба не на жизнь, а на смерть, и, видимо, опасается роковых для нее разоблачений. А на какую пытку она меня обрекла, заставив снова побывать в этом разоренном гнезде! Нет, она не знает пощады и всегда требует жертв. Жестокая эгоистка! Она взяла с меня клятву, что я буду отрицать преступную связь барона с кузиной и свидетельствовать чистоту их отношений.
Я отправился на это последнее свидание с тяжелым сердцем, едва держась на ногах. Сад выглядел так же, как в те дни, расцвела вишня, забелели нарциссы.
Деревья, на фоне которых она некогда явилась мне как волшебное видение, снова покрылись листьями, вскопанные грядки исполосовали газон траурными лентами, и я представил себе, как одиноко здесь гулять девочке, кинутой родителями на попечение равнодушной няньки. Девочка вырастет, начнет все понимать и в один печальный день узнает, что родная мать бросила ее на произвол судьбы!
Я поднимаюсь по лестнице этого рокового дома, стоящего на обрыве песчаного карьера, и в душе моей оживают горькие детские воспоминания. Дружба, кровное родство, любовь – все попрано. И дом этот стал прибежищем супружеской неверности, странным образом в нем узаконенной. Кто в этом виноват?
Дверь мне открывает баронесса и в тени драпировки тайком, перед тем как ввести в гостиную, целует меня. Я ненавижу ее в эту секунду и с негодованием отталкиваю. Грязные сцены в подворотне – вот что напоминает мне это, и просто сердце сжимается от отвращения. Таиться за дверью! Что за падшая женщина, у которой нет ни гордости, ни достоинства!
Мария делает вид, что принимает мое движение за страх, и приглашает в гостиную как раз в тот момент, когда унизительность ситуации становится мне все более очевидной и я решаю бежать прочь. Но она останавливает меня, взглядом подчиняет себе, и я, парализованный ее уверенностью, сдаюсь.
В гостиной все свидетельствует о разладе между супругами. Повсюду валяется белье, платья, юбки, какие-то тряпки. На рояле я вижу рубашки, отделанные кружевами, так хорошо мне знакомые, а на бюро – целую стопку панталон и чулок, которые некогда заставляли меня трепетать, а теперь лишь вызывают чувство стыда. Она ходит взад-вперед, сортирует, складывает, пересчитывает, нимало не смущаясь при этом.
«Неужели это я ее так быстро развратил?» – спрашиваю я себя, глядя, как она выставляет напоказ то, что честная женщина должна скрывать.
Она все перебирает, выискивая вещи, требующие починки. Из стопки панталон она вытаскивает те, у которых оторваны тесемки, и, как ни в чем не бывало, откладывает в сторону. Но я-то их хорошо помню, ибо сам разорвал в ту первую ночь, когда потерял голову от возбуждения.
Мне казалось, что я присутствую при казни, я терпел чудовищные муки, но Мария держалась твердо и слушала, как ни в чем не бывало, мою пустую болтовню в ожидании появления барона, который, запершись в столовой, что-то писал.
Наконец дверь отворилась, я вздрогнул – на пороге стояла девочка. И волнение мое, отнюдь не убывая, сразу приняло несколько иной характер. Дочь Марии, в сопровождении их болонки, явилась узнать, что же все-таки происходит в доме. Увидев меня, она подошла ко мне и, как обычно, подставила лобик для поцелуя. Я, конечно, поцеловал ее, но тут же, будучи не в силах сдержаться, обратился к ее матери и сказал ей прерывающимся от гнева голосом:
– Не могли бы вы избавить меня от этой пытки?
Баронесса явно ничего не понимала.
– Мама уезжает, детка, но она скоро вернется и привезет тебе игрушек.
Собачка тоже ластится ко мне. И она! Наконец появляется барон. Разбитый, согбенный, он дружески улыбается мне, молча Пожимает мою руку, у него нет сил говорить, и я тоже молчу, Уважая его горе и понимая всю непоправимость случившегося. Засим он удаляется.
Сгущаются сумерки, появляется служанка и, не здороваясь со мной, зажигает лампы. Когда подают ужин, я поднимаюсь, чтобы уйти. Но барон просит меня остаться, причем так искренне, что я соглашаюсь.
И вот мы снова сидим за столом втроем, как прежде. Как торжественны эти незабываемые минуты! Мы обо всем говорим и спрашиваем себя: кто же виноват в том, что случилось? Да никто, видно, так захотела судьба, просто так сложились обстоятельства в результате целого ряда причин. Мы пожимаем друг другу руки, чокаемся и, как и прежде, заявляем, что мы друзья навек. Только баронесса сохраняет спокойствие, строит планы на следующий день, договаривается о совместных прогулках по городу, уточняет нашу встречу на вокзале, и мы оба готовы выполнить все ее распоряжения.
В конце концов я встаю. Барон провожает нас в гостиную, там он вкладывает руку баронессы в мою и говорит глухим голосом:
– Будь ее другом, когда моя роль завершится. Береги ее, защищай от враждебного мира, помоги расцвести ее таланту, ведь тебе это легче сделать, чем мне, бедному солдату, и да поможет вам бог на вашем пути.
Барон уходит, оставив нас вдвоем, и притворяет за собой дверь.
Был ли он искренен? Я верил в это в тот момент, да и теперь не хотел бы в этом сомневаться. Ведь у него было чувствительное сердце, он был привязан к нам и искренне не хотел, чтобы мать его дитяти оказалась в руках врага.
Вполне возможно, что позже, попав под дурное влияние, он и хвастался, что тогда обвел нас вокруг пальца. Но это явно не соответствовало его характеру в годы нашей дружбы. А задним числом каждый боится, как бы не подумали про него, что он некогда остался в дураках.
Итак, в шесть часов вечера я вошел в зал ожидания Центрального вокзала. Поезд на Копенгаген уходил в шесть пятнадцать, но ни баронессы, ни барона еще не было видно.
Начался последний акт нашей ужасной драмы, и я с бешеной радостью предвидел ее скорый финал. Еще четверть часа – и наступит вожделенный покой. Мои нервы, расстроенные всеми этими сценами, жаждали успокоения, и я надеялся, что эта ночь поможет мне восстановить нервные ткани, растраченные впустую благодаря ловкости и хитроумию этой женщины.
Наконец она появляется, всклокоченная, неряшливо одетая, задыхающаяся от усталости. Конечно, баронесса в своем репертуаре – как безумная, она кидается ко мне.
– Предатель, он не сдержал своего слова! Он не приедет! – воскликнула она так громко, что привлекла внимание вокзальной толпы.
Хоть все это и было весьма прискорбно, но тем не менее я испытывал уважение к этому человеку и, дав волю духу противоречия, резко ответил:
– И правильно сделает! У него есть все основания так поступить.
– Если вы немедленно не возьмете билета до Копенгагена, – воскликнула она, – то я останусь!
– Нет! – ответил я. – Если я уеду с вами, это будет считаться похищением, и завтра весь город заговорит об этом.
– Мне нет до этого дела! Быстрее!
– Нет! Не пойду!
Другие электронные книги автора Август Юхан Стриндберг
Другие аудиокниги автора Август Юхан Стриндберг
Детская сказка




 4.5
4.5