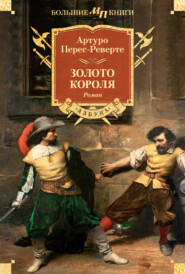По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чистая кровь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А я-то полагал, дон Франсиско, что вы чрезвычайно щепетильны насчет чистоты крови… – молвил, насмешливо улыбаясь в усы, капитан Алатристе. – Вот бы не подумал, что сунете голову в петлю из-за семейства выкрестов.
Кеведо, с мрачным видом подсев к столу, рьяно взялся за вино, до которого наконец-то дошел черед. Мы были втроем – дон Висенте и его сыновья уже удалились, обо всем договорившись с капитаном.
– И у старухи бывает проруха, – угрюмо сострил поэт.
– Кто ж спорит? То-то обрадуется, прознав об этом, ваш любимый дон Луис де Гонгора. Он такой сонет смастерит, что костей не соберете.
– Это уж как водится…
Поясню вам, господа, что в те времена ненависть к инаковерующим – еретикам, мусульманам и иудеям – почиталась неотъемлемой от истинной набожности: даже сам Лопе де Вега, даже славный дон Мигель де Сервантес приветствовали, например, изгнание морисков, случившееся всего за несколько лет до описываемых мною событий, а дон Франсиско де Кеведо, чрезвычайно гордившийся древностью своего рода, в котором все были христианами до семьдесят седьмого колена, не отличался особенной терпимостью к людям с сомнительной кровью. Напротив – охотно прибегал к этому доводу, когда следовало задеть противника побольнее, а излюбленной мишенью для его сатирических стрел служил вышеупомянутый дон Луис де Гонгора, которому Кеведо приписывал принадлежность к избранному народу:
Недаром Гонгора не ест свинины:
На лбу написано, вернее – на носу,
Что предначертан путь ему – в раввины.
Подобные выпады он перемежал с обвинениями соперника в мужеложстве, вот как в известном стихотворении, кончавшемся такими строками:
Наш дон Луис в сугубой злобе
Забыл один отметить штрих:
Пока хромаю я на обе –
Он педерастит за троих.
А теперь, стало быть, дон Франсиско де Кеведо-и-Вильегас, рыцарь ордена Сантьяго, древний христианин, сохранивший благородную чистоту крови, владелец поместья Торре-де-ла-Хуан-Абад, неутомимый преследователь иудеев явных и тайных, еретиков, содомитов, культеранистов всех мастей, затевает ни больше ни меньше как штурм монашеской обители – и лишь ради того, чтобы, рискуя жизнью и добрым именем, помочь семейству валенсианских марранов, то бишь «новых христиан». Даже я ребяческими своими мозгами смекнул, какие чудовищные последствия может возыметь это предприятие.
– Это уж как водится, – повторил поэт.
Я полагаю, что любой и каждый на родном ли языке, по-древнегречески ли или по-еврейски – благо дон Франсиско владел всеми тремя – принес бы обет любым богам, лишь бы не оказаться в его шкуре. И капитан Алатристе, которому не надо было оказываться в его шкуре, ибо ему и в собственной хлопот хватало, прекрасно это сознавал. Он по-прежнему стоял, привалясь плечом к стене, не присев и после ухода наших посетителей и пальцев из-за ремня не выпростав. Даже когда Херонимо де ла Крус за шиворот взволок меня в комнату, капитан не шевельнулся и произнес только: «Отпустите, пожалуйста» – но так произнес, что валенсианец, замешкавшись не долее чем на долю секунды, повиновался. А я, сгорев со стыда после такого, по-ученому говоря, афронта, на карачках уполз в дальний угол и там притаился как мышка. Стоило известного труда убедить семейство де ла Крус, что я – неслух и сорванец, но человек вполне надежный и что мне можно доверять, – зато сам сеньор Кеведо удостоил меня поручительством. И поскольку я и так уже все слышал, дону Висенте с сыновьями пришлось согласиться с моим присутствием. Впрочем, как медленно проговорил капитан, обводя высокое собрание ледяным и опасным взором, и здесь им ни выбирать, ни возражать тоже не приходится. Наступило долгое и многозначительное молчание, и более уже вопрос моего участия в предстоящем деле не обсуждался.
– …Это порядочные, благородные люди, – говорил меж тем дон Франсиско. – Вот настолечко не могу я упрекнуть их в том, что они – дурные католики. – Он помедлил, подыскивая новые резоны, привести которые считал необходимым. – И, кроме всего прочего, в бытность мою в Италии дон Висенте оказал мне важные услуги. Было бы просто низостью с моей стороны не протянуть ему сейчас руку помощи.
Капитан Алатристе понимающе склонил голову, хотя под густыми усами продолжал прятать усмешку.
– Это делает вам честь, – ответил он. – И все же – с Гонгорой-то как теперь быть? Не вы ли, сударь, неустанно поминаете ему крючковатый нос и отвращение к свинине? Кто сочинил это вот:
Зря в древние ты лезешь христиане:
Примета древности – достоинство седин,
Меж тем как ты плешив. Оставь старанье:
Ты – выкрест и не дворянин.
Дон Франсиско пощипывал эспаньолку, испытывая смешанные чувства: он был и польщен, что капитан знает его стихи наизусть, и несколько обескуражен тем, как глумливо тот прочел их:
– Клянусь плотью Христовой, ну и память у вас, Диего! Какой только чепухи не запоминаете!
Алатристе, не выдержав, расхохотался, но это не улучшило поэту настроения.
– Нет, я теперь представляю, что напишет о вас ваш извечный соперник! – И, водя в воздухе воображаемым пером, с ходу сочинил:
Меня давно уж в иудеи –
Нет обвинения серьезней! –
Кеведо злоба записала.
А сам, за них душой радея,
Совместно с ними строит козни,
В рот не беря свиного сала.
Ну, каково?
Чело дона Франсиско омрачилось еще сильнее – за шуточки такого рода всякому, кроме капитана Алатристе, пришлось бы ответить с оружием в руках. Однако он ограничился тем, что брюзгливо ответил:
– Каково-каково… Плохо! Плохо и плоско! Впрочем, педераст наш севильянский под ними с удовольствием бы подписался. Да и этот ваш приятель – граф де Гуадальмедина… Я не оспариваю его рыцарских достоинств, но как поэт он совершеннейшее недоразумение. Позор Парнаса… Ну а Гонгора вместе с его трескучей риторикой – всеми этими триклиниями[8 - Триклиний – столовая в древнеримском доме.], икарийскими паденьями, отравой ветра и тенью солнца и прочими красотами – меньше всего меня сейчас занимает. Я и в самом деле боюсь, что втравил вас в смертельно опасную затею… – Он снова припал к стакану, а потом бросил взгляд в мою сторону. – И вас, и мальчугана.
Мальчуган – то бишь я – по-прежнему сидел в углу. Кот уже трижды прошествовал мимо, и я попытался пнуть его – без особого успеха. Тут я заметил, что Алатристе глядит на меня и улыбка исчезла с его лица.
– Иньиго по своей воле встрял в это дело, – молвил капитан, пожав плечами. – А обо мне не беспокойтесь. Пусть вас это не заботит, ибо… – Он показал на кошелек с золотом, оставленный посреди стола. – Тяга к деньгам прогоняет тягостные мысли.
– Что ж, вам виднее…
Слова Алатристе явно не убедили Кеведо, и под усами капитана вновь зазмеилась усмешка.
– Черт возьми, дон Франсиско, вы поздновато спохватились. Снявши голову, по волосам не плачут, тем паче что и головы наши еще при нас.
Поэт понуро отхлебнул вина – раз и другой. Глаза его немного посоловели.
– Вломиться в монастырь – это не шуточки.
– Ничего, будем считать это родовой традицией, – отвечал капитан, подойдя к столу и извлекая из пистолета пыж и пулю. – Слышал я, что мой двоюродный дед[9 - Имеется в виду легендарный Дон Жуан (Хуан де Тенорио), приключениям которого посвящена комедия Тирсо де Молины (Габриэля Тельеса, 1571 или ок. 1583–1648) «Каменный гость, или Севильский озорник» (1616, опубл. 1630).], человек, пользовавшийся большой известностью во времена императора Карла, тоже взял приступом святую обитель. В Севилье дело было.
Дон Франсиско, оживившись, вскинул голову:
– Да это уж не тот ли озорник, что вдохновил Тирсо?
– Он самый.
– Я и не знал, что вы с ним в родстве.
– Теперь будете знать. Мир тесен, а Испания – тем более.
Очки свалились с носа сеньора Кеведо и повисли на шнурке. В задумчивости он вертел их в пальцах, не торопясь водружать обратно, потом оставил болтаться у алого креста Сантьяго, вышитого напротив сердца, дотянулся до кувшина и одним глотком допил остававшееся там вино, не сводя при этом глаз с капитана.
– Что мне вам сказать на это? Скверно кончил двоюродный ваш дедушка.
III
Мадридские воды
На следующий день мы с капитаном Алатристе и сеньором Кеведо отправились на мессу. Событие в своем роде весьма примечательное – ибо если дон Франсиско, побуждаемый к сему как кровью сантандерских дворян, текшей у него в жилах, так и принадлежностью к ордену Сантьяго, ревностно и неукоснительно соблюдал все обряды, то капитан был весьма слабо привержен и к доминусу, и к вобискуму[10 - Dominus vobiscum (лат.) – Господь с вами.]. Однако я готов присягнуть, что, хотя он, в силу особенностей, присущих военному человеку, часто поминал и черта, и дьявола, и душу, и мать, ни разу за все те годы, что был я рядом с ним, не пришлось мне услышать от него хоть словечко против религии – даже когда в таверне «У турка» споры, которые вели его приятели с преподобным Пересом, затрагивали недостойное поведение иных духовных лиц. Алатристе не был усердным прихожанином, однако сутану, тонзуру или, скажем, апостольник[11 - Апостольник – головной убор игуменьи.] уважал, как уважал и достоинство королевской короны, на чьей бы голове ни красовалась она: не берусь судить, сказывалась ли солдатская привычка к повиновению вышестоящему или столь свойственное ему стоическое безразличие, которое, как мне представляется, и было сокрытым движителем его натуры. Добавлю, что, хоть сам он почти не бывал в церкви, меня, однако, побуждал по воскресеньям и двунадесятым праздникам ходить к мессе в приятном обществе Каридад Непрухи, к зрелым годам сделавшейся, как и все, кто сильно распутничал в юности, до чрезвычайности набожной, и не отлынивать от уроков, дважды в неделю даваемых мне преподобным Пересом: по настоянию капитана учился я грамматике, начаткам латыни, катехизису и Закону Божьему, с тем чтобы, по его выражению, никто бы не принял меня за турка или навеки про`клятого еретика.
Да-с, такие вот противоречия уживались в душе Диего Алатристе. Спустя немного времени, во Фландрии, получил я возможность видеть, как перед самым боем, когда капелланы, обходя шеренги, благословляют христолюбивое воинство, капитан склонял голову, а колени – преклонял, и не из показного благочестия, но исключительно из уважения к товарищам, которые идут на смерть, свято веруя, что литании и кадильницы помогут. С Богом отношения у него были особые – он не докучал Ему славословиями, не обижал святотатственной хулой. Для него Вседержитель был существом могущественным и невозмутимым, которое отнюдь не дергает за веревочки, заставляя своих кукол плясать на подмостках, именуемых миром, но ограничивается бесстрастным наблюдением за ними. Или в лучшем случае с мудростью, непостижимой для актеров, представляющих эту человеческую комедию – не хочется говорить: «для шутов, кривляющихся в этом фарсе», – приводит в движение поворотный круг сцены, внезапно открывает крышки коварных люков – ухнешь туда, костей не соберешь, – внезапно спускает с колосников и выдвигает из-за кулис невесть откуда взявшиеся декорации, то загоняя тебя в безвыходные тупики, то вызволяя из самых отчаянных положений. Существо это вполне могло бы оказаться тем отдаленным перводвигателем, той бесконечно отнесенной от нас по времени причиною всех причин, о которых однажды вечерком, самую малость и в виде исключения перебрав сладкого вина, попытался было рассказать своим собутыльникам преподобный Перес, когда вздумал толковать о пяти доказательствах святого Фомы[12 - Имеется в виду Фома Аквинский (1225–1274) – философ-схоласт и теолог.]. Впрочем, мне кажется, что капитан был больше склонен оценивать это явление в духе древних римлян и того, что они, если не вконец позабыл я латынь, преподанную мне тем же самым Пересом, называли – фатум. Что же, разве не помню я бесстрастно-угрюмое лицо Алатристе в те минуты, когда противник беглым огнем начинал гвоздить из пушек, пробивая бреши в наших боевых порядках, и товарищи его осеняли себя крестным знамением, поручая себя кто Христу, кто – Пречистой Деве и внезапно припоминая затверженные в детстве молитвы, а он произносил «аминь» одновременно с ними, чтобы не так одиноко было им умирать? Однако холодные светлые глаза его зорко следили и за накатывающими волнами неприятельской кавалерии, и за вспышками мушкетных выстрелов с земляного вала, и за дымящимися бомбами, которые волчком крутились по земле, прежде чем рвануть и ослепительной вспышкой отправить тебя в дыму и пламени черту в зубы. И еле слышно пробормотанный «аминь» ни к чему Алатристе не обязывал; чтобы понять это, достаточно было заглянуть в его сосредоточенные глаза, увидеть орлиный профиль старого солдата, внимающего только монотонным раскатам барабанной дроби – такой же неторопливо-ровной, как размеренный шаг атакующей испанской пехоты или стук его сердца, бьющегося не чаще, чем всегда. Ибо Господу Богу капитан Алатристе служил в точности так же, как и своему королю: ему не за что было Его любить, нечем в Нем восхищаться. Однако Создатель, так сказать, по должности своей мог рассчитывать на подобающее уважение со стороны капитана. Как-то раз, в жарком деле у речки Мерк, неподалеку от крепости Бреда, случилось мне видеть, как дрался капитан, отбивая наше знамя и тело нашего бригадного Педро де ла Амба. И я еще тогда понял, что капитан костьми ляжет за этот изрешеченный мушкетными пулями труп – да и меня рядом положит, – хотя ни полковое знамя, ни павший смертью храбрых дон Педро ломаного гроша в его глазах не стоят. Да, обладал капитан таким вот обескураживающим свойством – чтил Бога, к которому был совершенно равнодушен, стоял до последнего за то, во что не верил, пьянствовал с врагом и рисковал жизнью ради генерала или короля, которых глубоко презирал.
Итак, мы пошли к обедне, хотя капитан, повторяю, набожностью не отличался. А обедню, как вы, наверно, уже догадливо сообразили, правили в церкви бенедиктинской женской обители – ну да, той самой, расположенной поблизости от королевского дворца и почти напротив монастыря Воплощения, на маленькой площади с тем же названием. Посетить восьмичасовую мессу у бенедиктинок считалось в Мадриде признаком хорошего тона, ибо, во-первых, прихожанкой этой церкви была донья Тереса де Гусман, законная супруга нашего министра Оливареса, а во-вторых, монастырский капеллан дон Хуан Короадо радовал глаз у алтаря и слух – на амвоне. По вышеназванной причине ходили к мессе не только богомольные старухи, но и дамы из общества, увлеченные красноречием красавца-капеллана и примером графини Оливарес, а равно и те, кто, к обществу этому не принадлежа, всеми силами туда рвался. Бывали тут и комедиантки, и девицы легкого поведения – а уж как блюли сии блудные дщери десять заповедей, представить нетрудно, – бывали и молились с большим чувством, просвечивая белилами и румянами сквозь тюлевую дымку покрывал и мантилий и щеголяя кружевами из Прованса и Лотарингии, раз уж брюссельские не по карману. А поскольку туда, где есть дамы – высшего ли разбора, с бору ли по сосенке, – мухами на мед непременно слетятся и кавалеры, то к восьми часам в маленькой церкви народу было, извините за выражение, больше, чем гнид в ослиной попоне: прекрасный пол молился или пускал стрелы Купидона из-за прикрытия вееров, сильный – занимал стратегически выгодные позиции за колоннами или у чаши со святой водой, а орава нищих толпилась на паперти, выставляла напоказ язвы, струпья, гнойники и обрубки рук или ног, потерянных якобы во Фландрии, а то и при взятии Трои, собачилась за лучшие места у самого выхода, разнося на все корки высокородных, но прижимистых сеньоров, которым легче удавиться, чем подать бедняку на пропитание.
Кеведо, с мрачным видом подсев к столу, рьяно взялся за вино, до которого наконец-то дошел черед. Мы были втроем – дон Висенте и его сыновья уже удалились, обо всем договорившись с капитаном.
– И у старухи бывает проруха, – угрюмо сострил поэт.
– Кто ж спорит? То-то обрадуется, прознав об этом, ваш любимый дон Луис де Гонгора. Он такой сонет смастерит, что костей не соберете.
– Это уж как водится…
Поясню вам, господа, что в те времена ненависть к инаковерующим – еретикам, мусульманам и иудеям – почиталась неотъемлемой от истинной набожности: даже сам Лопе де Вега, даже славный дон Мигель де Сервантес приветствовали, например, изгнание морисков, случившееся всего за несколько лет до описываемых мною событий, а дон Франсиско де Кеведо, чрезвычайно гордившийся древностью своего рода, в котором все были христианами до семьдесят седьмого колена, не отличался особенной терпимостью к людям с сомнительной кровью. Напротив – охотно прибегал к этому доводу, когда следовало задеть противника побольнее, а излюбленной мишенью для его сатирических стрел служил вышеупомянутый дон Луис де Гонгора, которому Кеведо приписывал принадлежность к избранному народу:
Недаром Гонгора не ест свинины:
На лбу написано, вернее – на носу,
Что предначертан путь ему – в раввины.
Подобные выпады он перемежал с обвинениями соперника в мужеложстве, вот как в известном стихотворении, кончавшемся такими строками:
Наш дон Луис в сугубой злобе
Забыл один отметить штрих:
Пока хромаю я на обе –
Он педерастит за троих.
А теперь, стало быть, дон Франсиско де Кеведо-и-Вильегас, рыцарь ордена Сантьяго, древний христианин, сохранивший благородную чистоту крови, владелец поместья Торре-де-ла-Хуан-Абад, неутомимый преследователь иудеев явных и тайных, еретиков, содомитов, культеранистов всех мастей, затевает ни больше ни меньше как штурм монашеской обители – и лишь ради того, чтобы, рискуя жизнью и добрым именем, помочь семейству валенсианских марранов, то бишь «новых христиан». Даже я ребяческими своими мозгами смекнул, какие чудовищные последствия может возыметь это предприятие.
– Это уж как водится, – повторил поэт.
Я полагаю, что любой и каждый на родном ли языке, по-древнегречески ли или по-еврейски – благо дон Франсиско владел всеми тремя – принес бы обет любым богам, лишь бы не оказаться в его шкуре. И капитан Алатристе, которому не надо было оказываться в его шкуре, ибо ему и в собственной хлопот хватало, прекрасно это сознавал. Он по-прежнему стоял, привалясь плечом к стене, не присев и после ухода наших посетителей и пальцев из-за ремня не выпростав. Даже когда Херонимо де ла Крус за шиворот взволок меня в комнату, капитан не шевельнулся и произнес только: «Отпустите, пожалуйста» – но так произнес, что валенсианец, замешкавшись не долее чем на долю секунды, повиновался. А я, сгорев со стыда после такого, по-ученому говоря, афронта, на карачках уполз в дальний угол и там притаился как мышка. Стоило известного труда убедить семейство де ла Крус, что я – неслух и сорванец, но человек вполне надежный и что мне можно доверять, – зато сам сеньор Кеведо удостоил меня поручительством. И поскольку я и так уже все слышал, дону Висенте с сыновьями пришлось согласиться с моим присутствием. Впрочем, как медленно проговорил капитан, обводя высокое собрание ледяным и опасным взором, и здесь им ни выбирать, ни возражать тоже не приходится. Наступило долгое и многозначительное молчание, и более уже вопрос моего участия в предстоящем деле не обсуждался.
– …Это порядочные, благородные люди, – говорил меж тем дон Франсиско. – Вот настолечко не могу я упрекнуть их в том, что они – дурные католики. – Он помедлил, подыскивая новые резоны, привести которые считал необходимым. – И, кроме всего прочего, в бытность мою в Италии дон Висенте оказал мне важные услуги. Было бы просто низостью с моей стороны не протянуть ему сейчас руку помощи.
Капитан Алатристе понимающе склонил голову, хотя под густыми усами продолжал прятать усмешку.
– Это делает вам честь, – ответил он. – И все же – с Гонгорой-то как теперь быть? Не вы ли, сударь, неустанно поминаете ему крючковатый нос и отвращение к свинине? Кто сочинил это вот:
Зря в древние ты лезешь христиане:
Примета древности – достоинство седин,
Меж тем как ты плешив. Оставь старанье:
Ты – выкрест и не дворянин.
Дон Франсиско пощипывал эспаньолку, испытывая смешанные чувства: он был и польщен, что капитан знает его стихи наизусть, и несколько обескуражен тем, как глумливо тот прочел их:
– Клянусь плотью Христовой, ну и память у вас, Диего! Какой только чепухи не запоминаете!
Алатристе, не выдержав, расхохотался, но это не улучшило поэту настроения.
– Нет, я теперь представляю, что напишет о вас ваш извечный соперник! – И, водя в воздухе воображаемым пером, с ходу сочинил:
Меня давно уж в иудеи –
Нет обвинения серьезней! –
Кеведо злоба записала.
А сам, за них душой радея,
Совместно с ними строит козни,
В рот не беря свиного сала.
Ну, каково?
Чело дона Франсиско омрачилось еще сильнее – за шуточки такого рода всякому, кроме капитана Алатристе, пришлось бы ответить с оружием в руках. Однако он ограничился тем, что брюзгливо ответил:
– Каково-каково… Плохо! Плохо и плоско! Впрочем, педераст наш севильянский под ними с удовольствием бы подписался. Да и этот ваш приятель – граф де Гуадальмедина… Я не оспариваю его рыцарских достоинств, но как поэт он совершеннейшее недоразумение. Позор Парнаса… Ну а Гонгора вместе с его трескучей риторикой – всеми этими триклиниями[8 - Триклиний – столовая в древнеримском доме.], икарийскими паденьями, отравой ветра и тенью солнца и прочими красотами – меньше всего меня сейчас занимает. Я и в самом деле боюсь, что втравил вас в смертельно опасную затею… – Он снова припал к стакану, а потом бросил взгляд в мою сторону. – И вас, и мальчугана.
Мальчуган – то бишь я – по-прежнему сидел в углу. Кот уже трижды прошествовал мимо, и я попытался пнуть его – без особого успеха. Тут я заметил, что Алатристе глядит на меня и улыбка исчезла с его лица.
– Иньиго по своей воле встрял в это дело, – молвил капитан, пожав плечами. – А обо мне не беспокойтесь. Пусть вас это не заботит, ибо… – Он показал на кошелек с золотом, оставленный посреди стола. – Тяга к деньгам прогоняет тягостные мысли.
– Что ж, вам виднее…
Слова Алатристе явно не убедили Кеведо, и под усами капитана вновь зазмеилась усмешка.
– Черт возьми, дон Франсиско, вы поздновато спохватились. Снявши голову, по волосам не плачут, тем паче что и головы наши еще при нас.
Поэт понуро отхлебнул вина – раз и другой. Глаза его немного посоловели.
– Вломиться в монастырь – это не шуточки.
– Ничего, будем считать это родовой традицией, – отвечал капитан, подойдя к столу и извлекая из пистолета пыж и пулю. – Слышал я, что мой двоюродный дед[9 - Имеется в виду легендарный Дон Жуан (Хуан де Тенорио), приключениям которого посвящена комедия Тирсо де Молины (Габриэля Тельеса, 1571 или ок. 1583–1648) «Каменный гость, или Севильский озорник» (1616, опубл. 1630).], человек, пользовавшийся большой известностью во времена императора Карла, тоже взял приступом святую обитель. В Севилье дело было.
Дон Франсиско, оживившись, вскинул голову:
– Да это уж не тот ли озорник, что вдохновил Тирсо?
– Он самый.
– Я и не знал, что вы с ним в родстве.
– Теперь будете знать. Мир тесен, а Испания – тем более.
Очки свалились с носа сеньора Кеведо и повисли на шнурке. В задумчивости он вертел их в пальцах, не торопясь водружать обратно, потом оставил болтаться у алого креста Сантьяго, вышитого напротив сердца, дотянулся до кувшина и одним глотком допил остававшееся там вино, не сводя при этом глаз с капитана.
– Что мне вам сказать на это? Скверно кончил двоюродный ваш дедушка.
III
Мадридские воды
На следующий день мы с капитаном Алатристе и сеньором Кеведо отправились на мессу. Событие в своем роде весьма примечательное – ибо если дон Франсиско, побуждаемый к сему как кровью сантандерских дворян, текшей у него в жилах, так и принадлежностью к ордену Сантьяго, ревностно и неукоснительно соблюдал все обряды, то капитан был весьма слабо привержен и к доминусу, и к вобискуму[10 - Dominus vobiscum (лат.) – Господь с вами.]. Однако я готов присягнуть, что, хотя он, в силу особенностей, присущих военному человеку, часто поминал и черта, и дьявола, и душу, и мать, ни разу за все те годы, что был я рядом с ним, не пришлось мне услышать от него хоть словечко против религии – даже когда в таверне «У турка» споры, которые вели его приятели с преподобным Пересом, затрагивали недостойное поведение иных духовных лиц. Алатристе не был усердным прихожанином, однако сутану, тонзуру или, скажем, апостольник[11 - Апостольник – головной убор игуменьи.] уважал, как уважал и достоинство королевской короны, на чьей бы голове ни красовалась она: не берусь судить, сказывалась ли солдатская привычка к повиновению вышестоящему или столь свойственное ему стоическое безразличие, которое, как мне представляется, и было сокрытым движителем его натуры. Добавлю, что, хоть сам он почти не бывал в церкви, меня, однако, побуждал по воскресеньям и двунадесятым праздникам ходить к мессе в приятном обществе Каридад Непрухи, к зрелым годам сделавшейся, как и все, кто сильно распутничал в юности, до чрезвычайности набожной, и не отлынивать от уроков, дважды в неделю даваемых мне преподобным Пересом: по настоянию капитана учился я грамматике, начаткам латыни, катехизису и Закону Божьему, с тем чтобы, по его выражению, никто бы не принял меня за турка или навеки про`клятого еретика.
Да-с, такие вот противоречия уживались в душе Диего Алатристе. Спустя немного времени, во Фландрии, получил я возможность видеть, как перед самым боем, когда капелланы, обходя шеренги, благословляют христолюбивое воинство, капитан склонял голову, а колени – преклонял, и не из показного благочестия, но исключительно из уважения к товарищам, которые идут на смерть, свято веруя, что литании и кадильницы помогут. С Богом отношения у него были особые – он не докучал Ему славословиями, не обижал святотатственной хулой. Для него Вседержитель был существом могущественным и невозмутимым, которое отнюдь не дергает за веревочки, заставляя своих кукол плясать на подмостках, именуемых миром, но ограничивается бесстрастным наблюдением за ними. Или в лучшем случае с мудростью, непостижимой для актеров, представляющих эту человеческую комедию – не хочется говорить: «для шутов, кривляющихся в этом фарсе», – приводит в движение поворотный круг сцены, внезапно открывает крышки коварных люков – ухнешь туда, костей не соберешь, – внезапно спускает с колосников и выдвигает из-за кулис невесть откуда взявшиеся декорации, то загоняя тебя в безвыходные тупики, то вызволяя из самых отчаянных положений. Существо это вполне могло бы оказаться тем отдаленным перводвигателем, той бесконечно отнесенной от нас по времени причиною всех причин, о которых однажды вечерком, самую малость и в виде исключения перебрав сладкого вина, попытался было рассказать своим собутыльникам преподобный Перес, когда вздумал толковать о пяти доказательствах святого Фомы[12 - Имеется в виду Фома Аквинский (1225–1274) – философ-схоласт и теолог.]. Впрочем, мне кажется, что капитан был больше склонен оценивать это явление в духе древних римлян и того, что они, если не вконец позабыл я латынь, преподанную мне тем же самым Пересом, называли – фатум. Что же, разве не помню я бесстрастно-угрюмое лицо Алатристе в те минуты, когда противник беглым огнем начинал гвоздить из пушек, пробивая бреши в наших боевых порядках, и товарищи его осеняли себя крестным знамением, поручая себя кто Христу, кто – Пречистой Деве и внезапно припоминая затверженные в детстве молитвы, а он произносил «аминь» одновременно с ними, чтобы не так одиноко было им умирать? Однако холодные светлые глаза его зорко следили и за накатывающими волнами неприятельской кавалерии, и за вспышками мушкетных выстрелов с земляного вала, и за дымящимися бомбами, которые волчком крутились по земле, прежде чем рвануть и ослепительной вспышкой отправить тебя в дыму и пламени черту в зубы. И еле слышно пробормотанный «аминь» ни к чему Алатристе не обязывал; чтобы понять это, достаточно было заглянуть в его сосредоточенные глаза, увидеть орлиный профиль старого солдата, внимающего только монотонным раскатам барабанной дроби – такой же неторопливо-ровной, как размеренный шаг атакующей испанской пехоты или стук его сердца, бьющегося не чаще, чем всегда. Ибо Господу Богу капитан Алатристе служил в точности так же, как и своему королю: ему не за что было Его любить, нечем в Нем восхищаться. Однако Создатель, так сказать, по должности своей мог рассчитывать на подобающее уважение со стороны капитана. Как-то раз, в жарком деле у речки Мерк, неподалеку от крепости Бреда, случилось мне видеть, как дрался капитан, отбивая наше знамя и тело нашего бригадного Педро де ла Амба. И я еще тогда понял, что капитан костьми ляжет за этот изрешеченный мушкетными пулями труп – да и меня рядом положит, – хотя ни полковое знамя, ни павший смертью храбрых дон Педро ломаного гроша в его глазах не стоят. Да, обладал капитан таким вот обескураживающим свойством – чтил Бога, к которому был совершенно равнодушен, стоял до последнего за то, во что не верил, пьянствовал с врагом и рисковал жизнью ради генерала или короля, которых глубоко презирал.
Итак, мы пошли к обедне, хотя капитан, повторяю, набожностью не отличался. А обедню, как вы, наверно, уже догадливо сообразили, правили в церкви бенедиктинской женской обители – ну да, той самой, расположенной поблизости от королевского дворца и почти напротив монастыря Воплощения, на маленькой площади с тем же названием. Посетить восьмичасовую мессу у бенедиктинок считалось в Мадриде признаком хорошего тона, ибо, во-первых, прихожанкой этой церкви была донья Тереса де Гусман, законная супруга нашего министра Оливареса, а во-вторых, монастырский капеллан дон Хуан Короадо радовал глаз у алтаря и слух – на амвоне. По вышеназванной причине ходили к мессе не только богомольные старухи, но и дамы из общества, увлеченные красноречием красавца-капеллана и примером графини Оливарес, а равно и те, кто, к обществу этому не принадлежа, всеми силами туда рвался. Бывали тут и комедиантки, и девицы легкого поведения – а уж как блюли сии блудные дщери десять заповедей, представить нетрудно, – бывали и молились с большим чувством, просвечивая белилами и румянами сквозь тюлевую дымку покрывал и мантилий и щеголяя кружевами из Прованса и Лотарингии, раз уж брюссельские не по карману. А поскольку туда, где есть дамы – высшего ли разбора, с бору ли по сосенке, – мухами на мед непременно слетятся и кавалеры, то к восьми часам в маленькой церкви народу было, извините за выражение, больше, чем гнид в ослиной попоне: прекрасный пол молился или пускал стрелы Купидона из-за прикрытия вееров, сильный – занимал стратегически выгодные позиции за колоннами или у чаши со святой водой, а орава нищих толпилась на паперти, выставляла напоказ язвы, струпья, гнойники и обрубки рук или ног, потерянных якобы во Фландрии, а то и при взятии Трои, собачилась за лучшие места у самого выхода, разнося на все корки высокородных, но прижимистых сеньоров, которым легче удавиться, чем подать бедняку на пропитание.