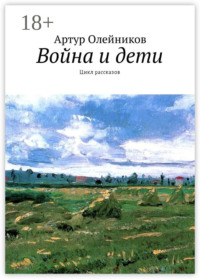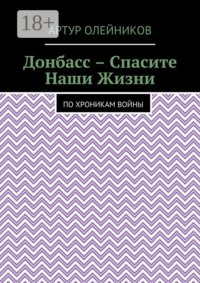Лизавета Синичкина
– Смотрел, то смотрел, но только та сметана высоко на столе стоит, старому коту не допрыгнуть!
– Ты старый?! Тебе сорок три.
– А ей двадцать один. Не допрыгнуть!
– Вот мы тебе эту сметану да со стола, да на блюдечке.
– Это что же вы, ее под меня подкладываете?
– Не знал я, Федор, что ты такой дурак, – выходил из себя директор. Я жизнь хочу твою устроить. И кому она теперь нужна. Еще и живота особо не видно, а все как провались. А то ведь табунами вокруг школы ходили. Мне проходу не давали, что да как? А теперь! Ты не дури.
– Я не дурю! Не надо мне вашей жизни. Так не надо. Это что же получается, она за меня из-за дома должна пойти!? Что жить негде?!
– Ты и вправду, Федор, дурак. Почему ты считаешь, что она со временем не сможет тебя полюбить за заботу, за руки твои? Не потому что ей с ребенком жить негде!
– Да не сможет! Вот она Пушкина детям читает, а я им столярной линейкой по горбу, чтобы чертилкой глаза друг другу не повыкалывали. Разные мы. Так не бывает.
– Ну ты, Федор, и полено!
– А с чем вожусь всю жизнь, то и есть.
– Значит так! Тебя жениться на ней никто не заставит, если сам не захочешь. Ей жить негде. Я тебя как человека прошу. Я за тебя всегда горою стоял и в школу взял, не в упрек будет сказано. Выдели ей комнату. Школа тебе плотить станет.
– Да не надо мне ваших денег. Пусть так живет. А то еще потом скажут, что я с бабы деньги беру, что она со мной спит. Да не смотри на меня! Чай не местный?! Завтра вся станица будет трепаться, что беременную учительницу замуж взял, а она пошла, потому что домой ехать боится. Прибьют. Мне все равно, а вот она как?
– Твое дело устроить. Поболтают да забудут. А девке жить негде. Ребенок родится, я ей комнату выбью. Все легче будет. А пока не родится, пусть поживет.
– Да пусть живет!
– Дурак, еще благодарить будешь.
– Да, буду! Морду тебе по дружбе набью. Не посмотрю, что директор, – сказал Федор и стал уходить.
– Иди, иди с глаз моих долой, – кричал ему вслед директор. – Хоть издали почувствуешь, что такое отец!
Федор решил выделить учительнице самую большую комнату в доме. Занес чемоданы в комнату. Показал, что, где в большом доме.
– Отец хоть кто? – хмуро спросил Федор, смотря на округлившийся живот учительницы.
Эльвира смутилась, но ответила, опустив глаза.
– Мы в параллельных группах учились.
Федор вздохнул; и раньше особо не жалуя Эльвиру, поселив ее у себя в доме, он сразу как-то перестал в ней видеть свою коллегу, был резок и немного даже груб, за что впоследствии всегда себя корил.
– Ну а оно и понятно. С кем же еще? И что за имя у тебя такое! – восклицал Федор, рассматривая с ног до головы учительницу. Эльвира! Родители, небось, тоже профессора?
– Из детдома я. Нас часто подобно называют. Джульетта, Офелия, Анна. Несчастная любовь.
– Не слышал я, что из детдома. Прости, – смутился Федор.
– Я никому не рассказывала. Приехала и приехала. Куда распределили.
– Понятно! Вот оно как. Мать сирота и ребенок сирота. Отец – Генерал, и сыночек генералом будет. А что же ты думала, когда ноги раскорячивала. А?
Эльвира заплакала и стала брать чемоданы.
– А ну положи, говорю! Ишь, гордячка! О ребенке подумай. О тебе никто никогда не думал, и ты ни о ком не заботишься. Беременной по углам шататься польза небольшая.
И с того дня незаметно для самого Федора его прежняя одинокая холостая жизнь стала его пугать, лишь только хоть на миг он оставался в доме один, когда Эльвира шла в магазин, ездила на прием к доктору. Теперь Федора каждый день ждала женщина и не одна, а с новой зародившейся в ней жизнью. Готовила обеды, волновалась, когда Федор опаздывал, за ужином расспрашивала, как дела в школе. Первые недели они спали в разных комнатах, но однажды Эльвира пришла спать не к себе, а в комнату к Федору.
Рос живот, наливалась грудь – Эльвира сильно полнела. Сама от природы слабая и болезненная, она тяжело переносила беременность, задыхалась и сильно отекала. Как садовник за розой ухаживал и оберегал Федор свою Эльвиру. И с нетерпением ждал, когда родится ребенок. Месяц делал колыбель. И сделал ее необыкновенной, как и все, чего только не касались его руки и сердце. Колыбель была в виде маленькой лодочки из сосны, с веслами по бортам и специальным углублением посередине кормы, чтобы молодая мама ставила туда бутылочку с молоком, если вдруг случится, что болезненная Эльвира рано перестанет кормить грудью. Как будто бы все предусмотрел Федор. Вырезал гору солдатиков и лошадок, если родится мальчик, и смастерил пару необыкновенных кукол, сам сшив им платья из голубого шелка. Даже качели поставил заранее во дворе. Все не мог дождаться. И в последние дни, когда по срокам должны были начаться роды, пошел брать отгулы, чтобы ни на шаг не отходить от будущей мамы.
– Ну что, что я тебе говорил? – радовался до слез директор, провожая домой учителя по труду. Вот родит, туда дальше в садик пойдете. И чтобы оба у меня как штык на работу.
Счастливый, но в то же время с беспокойством и тревогой на лице, Федор стоял перед директором.
– Ну что ты, что ты печалишься, Федор? Мучишься, что не твое?
– Да где же не мое. Мое. Я вот… – и Федор опустил голову.
– Что? Говори, Федор, не бойся.
– Я вот колыбельку делал и плакал. Все одно, что баба, даже потом стыдно было.
– Да что ты, что ты, Федор. Это хорошо, хорошо, – и у старого директора проступали слезы.
– Страшно мне. По ночам не сплю. Совсем она плохая. В больницу отказалась ложиться. Говорит, с тобой буду, никуда от тебя не уйду. Как так может быть? Вот за что она меня любит? Что ей сделал?
– Да за колыбельку она тебя любит. За слезы твои. Иди с глаз моих долой. Беги к ней!
Схватки у Эльвиры начались глубокой ночью и вышли стремительными и болезненными.
– Федор, миленький, не бросай, не бросай меня. Я боюсь одна, – умоляла Эльвира.
– Врача тебе надо, что я могу. Надо бежать звонить. Потерпи, потерпи, Эльвирочка. Здесь недалеко. Я скоро, только за врачом, – отвечал испуганно Федор и торопился.
– А-а-а-а, – начинала кричать Эльвира, и Федор бросал пальто с шапкой и бежал обратно к постели рожающей женщины.
– Да что я. В больницу надо, – сокрушался Федор.
– Не бросай. Страшно! А-а-а-а, больно! – запрокинув голову, закатывала глаза Эльвира.
– Потерпи, потерпи, Эльвира.
– А-а-а-а, не могу, больно!
– Сейчас, сейчас! И Федор бежал к бабке соседке и, как сумасшедший, не помня себя, колотил в окно. – Егоровна, Егоровна!
– Да что случилась? – спрашивала Егоровна, семидесятилетняя бабка, в открытую форточку. – Рожает уже что ли?
– Да! Совсем она плохая. Опухла вся.
– Да тебе почем знать?! Ты доктор или когда рожал! – рассмеялась Егоровна. – Никуда не денется. Все рожают, и она родит!
– Я звонить в больницу побежал. А ты скорее, Егоровна. Иди к ней, ради бога, скорей.
– Да иди куда надо. Сейчас пойду, теперь все равно не засну.
Когда Федор вернулся, его встречал звонкий детский плач. Егоровна вышла к нему в коридор с новорожденной, завернутой в большой пуховой платок.
– Казачка! Принимай, отец, – сказала Егоровна и хотела, было, засмеяться, но так и не смогла. Как-то вся смежилась и стала серьезной. – Умерла баба. Крови много вышло, а девка крепкая. На, возьми-ка дочку, отец. Подержи, как оно, – и Егоровна протянула младенца, чтобы брал.
Федор трясущимися руками взял ребеночка – что-то маленькое, пытающееся уже возражать, словно взрослое, и зарыдал над младенцем по-бабьи.
В прошлом году учитель по труду умер, и дочка его Лиза осталась жить одна в большом доме. С первого раза, как Федор взял ее на руки, он все годы не спускал с нее глаз, берег и лелеял как когда-то ее мать. Знал, что когда умрет, больше некому будет заботиться о дочке, и с первого года собирал и откладывал дочке деньги. Подрабатывал, крыл крыши, делал на заказ редкую мебель и после смерти оставил дочери приличные деньги. И теперь, когда приходила дочь Пономарева, Лизе было стыдно. Тоня, рыжая крепкая баба жила с отцом бедно и, тем не менее, носила полные сумки в богатый дом Лизы. Лиза готова была провалиться под землю, и каждый раз пробовала уговорить Тоню забрать продукты обратно. Но было бесполезно, Тоня и слышать ничего не хотела. «Вы опять за свое?! Ну что я, старика не накормлю?! Деньги у меня есть», – говорила Лиза и в ответ слышала, словно заученное Тоней наизусть. «Надо так, – говорила Тоня, выкладывая продукты на стол, – отец пенсию получает. А то люди что скажут?! Деньги старика прикарманиваю! Не унесу, и не уговаривай! Ты, Лиза, лучше ему зеленый борщ свари (зимой Тоня просила варить борщ с квашеной капустой). Если не трудно, свари. Он его только бы и ел».
И Лиза варила борщи. Коля приходил всегда поздно и, если был в состоянии держать ложку, ел свой борщ, рассказывая Лизе новости и станичные сплетни.
А Лиза только год, как, похоронив отца, полная волнения, ждала Колю, и когда он наконец-то приходил и, засыпая, что-то бурчал в своей комнате, Лизе казалось, что отец не умирал. За последние месяцы она сильно привязалась к старику и сама не заметила, как полюбила, словно родного отца. И вообще, в целом, всю жизнь, пробыв рядом со стареющим человеком, ежеминутно дарившем ей тепло, Лиза с большим трепетом и любовью относилась к пожилым и старым людям.
С молодыми людьми, напротив, как-то ни с кем особо и не дружила. Пожалуй, самая молодая ее подруга была Савельева, одна бедовая станичница, которой было за сорок. И со временем как-то само собой сверстники станичники забыли, что Лиза еще молода, что ей только двадцать пять лет и считали ее за старую деву и монашку, все свое время тратившую на стариков, и совсем ей не интересовались. Никто к Лизе не сватался и не набивался в женихи, и она так до сих пор ходила не целованная. Пару раз знакомые бабы устраивали богатой Лизе встречу с неженатыми парнями, но молодые люди после стариков с их выстраданными сложными судьбами казались Лизе пустыми, неинтересными, словно чистыми листами, на которых жизнь не успела написать ничего знаменательного. А когда была молоденькой, когда еще был жив отец, Лиза и представить себе не могла, как ради своего счастья можно было оставить старика отца. И так и не вышла замуж. И теперь, как бы ни было светло и красиво в доме, Лизе порою становилось грустно. Но только не в такие минуты, когда на ее пороге наконец-то появлялся долгожданный гость. И когда Коля, наверное, в десятый раз поклонился, а Лиза сказала, что прощает старика и не держит на него обиды, так было хорошо и, наверное, у самого печального грусть сняло бы как рукой.
Лиза усадила Колю за стол, поставила чайник на газовую плиту и стала для долгожданного гостя собирать поздний ужин.
Ел Коля вроде бы в охотку, но все же без азарта, как бывает у человека, весь день не державшего во рту крошки. Не так, как если бы старику к запашистой домашней колбасе да к дымящемуся борщу поставили запотевший стаканчик холодной водки.
– Правда, нет, – оправдывалась Лиза, открывала шкаф и показывала. – Завтра куплю! Ну, чтобы только для аппетита.
Коля фыркал.
– Да кто ж ее, заразу, для здоровья пьет?! Глупости все это.
– Да как же ее надо пить? – улыбалась Лиза.
– А так, пьешь, а сам клянешь себя, на чем свет! Вроде бы как очищаешься. Ведь же грех!
– Ну, если грех, надо тогда бросить! – восклицала Лиза.
Старик вздыхал.
– Да, конечно, надо, но ведь же, зараза, как держит!
– От лукавого, – вздыхала Лиза.
А Коле только это было и надо, ну как любому слабому, чтобы только увидели в его слабости руку нечистого. В такие минуты Колю было не остановить.
– Во-во, от лукавого, все от него, хвостатого. Бывает, поднесешь к губам и думаешь, нет, все – вот сейчас на землю выплесну. Да где там, сатана, сам стакан опрокинет и никакого спасения.
Лизавета печалилась, понимая, что для Коли, как и для большинства, легче изобрести вечный двигатель, чем признаться в собственной слабости.
– Ну что вы, Николай Карлович. Совсем не то я имела ввиду, когда говорила, что от лукавого.
– Это как? – удивился Коля.
– А так, что ведь не святой дух же, в самом деле, вот эту нам водку послал?! Сатана, конечно. Но что он вам стаканчик переворачивает, неправда, Николай Карлович, ой, какая неправда. Нет у сатаны такой силы, нет, и никогда не будет! Да и не нужна она ему, потому что человек слаб.
– Да что же тогда, Господь за грехи?
– Что вы такое говорите, – покачала головой Лиза. Как можно Бога в такие дела замешивать! И если по правде, Богу тоже не под силу, даже если и за грехи!
Коля не понял.
– Да как же! Все в воле Божьей и нет ничего такого, чтобы было Богу не под силу.
Лиза приняла строгий вид.
– Под силу гору на камни рассыпать, под силу осушить океан, но не как вы говорите, Николай Карлович, стаканчик вам опрокинуть.
Коля почесал свою лохматую голову:
– Гору разрушить, а стаканчик не под силу? Не понимаю.
– Не Бог, вам, Николай Карлович, стаканчик поднимал, чтобы его опрокидывать. Воля ваша, Николай Карлович, пить или выплеснуть, как и во всем остальном. Сатана поставит перед человеком стаканчик, все одно, как искушал Христа в пустыне да на скале. Все одно. Поставил стаканчик и в сторонку отошел и вместе с Господом смотрит на человека.
– Вместе с Господом! – подивился Коля.
– Вместе с Господом, Николай Карлович, и только вместе. И вот они смотрят, и каждый думает о своем. И что выберет человек, такая ему и награда будет потом. И не будет большей радости и гордости у Бога за его дитя, человека, если вы, Николай Карлович, выплеснете тут проклятую водку и обратитесь к свету. И кивнет тогда Господь самому сатане, и сам сатана улыбнется, потому что как бы он ни желал зла, а вот оно свершилось, благо. И так до судного дня, когда вместо сатаны на землю придут ангелы, чтобы вершить Божий праведный суд.
Лизонька замолчала и как-то склонила головку, словно принимая Божий праведный суд, как бы он ни был суров.
Многое Коля не понял, но в каждом слове Лизы была заключена словно какая-то сила, так они у Лизы лились из сердца, что нельзя было сомневаться, что все до последнего Лизиного слова истинная правда, что словно сам Господь как будто вложил их в сердце сиротки.
Всегда после таких разговоров Лиза утомлялась. Могла Лиза не заразиться от несчастного страдающего гриппом. Кашляй он и чихай на Лизу хоть сто раз, но стоило ей переволноваться, она могла целый день пролежать с жаром. Была Лиза слабой нервами. Она знала свою беду, но не могла, чтобы не переживать, чтобы не вступить на улице в разговор, когда слушала, что человек не так понимает и истолковывает слово Божье. Всем и каждому Лиза старалась донести свет. И пусть потом лежать без сил, ну что это по сравнению с тем большим светлым делом, за которое она так ратует, – считала Лиза.
Коля знал, как оно бывает с Лизой, и всегда в таких случаях сильно переживал.
– Ну-ну, все, все, – сказал Коля и ласково по-отечески поцеловал Лизу.
Лиза улыбнулась. Она была бледной, и казалось, что от волнения еле стоит на ногах.
– Совсем я тебя утомил, проклятый старик! – ругал себя Коля.
– Да что вы, что вы, – вспыхнула Лиза. Не говорите так.
Лиза обняла старика.
– Вот и помирились. Помирились, помирились? – спрашивала Лиза.
Коля заплакал. Размазав кулаком слезы и особо не задумываясь, как это бывает у русского человека, вдруг перекрестил Лизу с таким видом, как отец благословляет дочь.
– Ну, все-все, ложиться тебе надо. И мне тоже.
Старик уже скоро уснул, а Лиза еще долго, перед тем как улечься в постель, стояла на коленях перед большой, потемневшей от веков, иконой Николая Чудотворца. Как всегда случалось с ней перед сном и в волнительные минуты жизни.
Когда утром Коля поднялся, Лиза была уже на ногах и пекла для старика блины. Ароматное тепло витало по комнатам и приглашало к столу, и ноги сами собой шагали на кухню, в независимости, были ли вы сыты или проголодались, как волк. Есть на свете не просто еда, скажем, как какая-нибудь колбаса или котлета – проглотил без церемоний и побежал себе по делам. Нет, с русскими блинами было не так, как с котлетой. Не знаю, мне так кажется, что сколько бы раз не ел блинов, нельзя смотреть на блины без умиленья и какого-то душевного восторга, как, когда смотришь на солнце и хочешь испытать его тепло.
Золотые, запашистые, горячие, в топленом масле, готовые блины, сложенные в стопку, заставят русского человека улыбнуться, а иностранца восхититься, и лишь только какой-нибудь немец или француз откусит от блина кусочек, он закроет глаза и в истоме подумает: Россия. И в тот же миг закружится, запоет, предстанет перед ним вся хлебосольная Русь. Сойдут с кустодиевских полотен румяные дородные купчихи, пустятся вприсядку бородатые мужики и Чичиков в своей коляске, и Ноздрев со своим щенком, и Коробочка с возом булок да ватрушек, Собакевич с целым бараном – да чего только не явится. И, конечно, масленица с ее миллионом блинов, потехами и красными сапогами на столбе.
Коля улыбнулся стопке блинов, сверкающему самовару, встречавшему его на столе, и Лизоньке, что сделала старику такой праздник.
– Спасибо, дочка. Ну, ты это лучше, поспала бы. Я бы уже как-нибудь так перекусил.
– Еще чего выдумали! – ответила Лиза.
– Да не выкидывать же?! Вон и хлеб я вчера не доел и колбасу.
– Хлеб воробьи склюют. А колбасой вон пусть Васька лакомится.
Васька, рыжий кот, с длинными усами, облизнулся, когда речь зашла о колбасе, словно понимал и, мурлыча, затерся об ноги хозяйки.
Старик умилялся.
– Все у тебя в добро обращается.
– А как же оно иначе, – удивлялась Лиза. Вон ведь каждое доброе дело, пусть и самое небольшое на вид, то, как корм для птички, дорога к престолу отца нашего. Надо только смотреть по сторонам да вокруг себя.
– Да как все увидеть? – вздыхал старик.
– Совсем и не трудно, надо сердце открытым держать. На то оно и сердце, Богом нам дано, чтобы видеть и слышать то, что можно и глазами не разглядеть и ухом не услышать.
Лиза улыбалась и наливала старику в фарфоровую чашку чаю. Садилась рядом и смотрела, как Коля ест блины, и запивает их горячим чаем.
От блинов с пылу-жару и горячего чая у старика на лбу проступила испарина, и он расстегивал ворот рубашки и вздыхал от тепла и удовольствия.
– К Савельевой подруга приехала. Галей зовут, – стал рассказывать Коля, с наслаждением отпивая из кружки чай.
– Подруга! – удивлялась и радовалась Лиза за Савельеву.
– Да! Двадцать лет не виделись, и на тебе. И кто виновник, я вас спрашиваю!?
Коля любил похвастать, а еще приукрасить. Так порою заврется, что местные мужики от смеха надрывали животы. И никогда не обижались, если Коля их приплетал в свои рассказы, больно забавно выходило у Коли: что ни рассказ, так анекдот.
Лиза улыбнулась и стала внимательно слушать.
Коля преобразился – хоть сейчас на трибуну. Отставил чашку с чаем и принял серьезный вид, подступая к рассказу.
– Лежу я, стало быть! А что не отдохнуть?! Лето – земля теплая. Сам бог велел!
– Где лежите?
Коля фыркнул.
– Что значит, где? У дома Савельевой разумеется!
Лиза покачала головой.
– Не пьяный я был, просто лежу! Что, человеку нельзя и полежать? Они там все за границей лежат. Разлягутся и млеют, черт их возьми.
Лиза рассмеялась:
– Так они ведь, наверное, на траве лежат. Лужайка называется!
– Во-во!
– И где же вы такое видели?
– Видел! Вон по телевизору показывали. Вон, смотрите, какая у них там райская жизнь и цивилизация. А по мне, так брешут. Тоже мне рай! Вон, у нас, где хошь лежи и что оно, манна небесная? Э, нет, лежи, не лежи, а сытую жизнь не вылежишь. Прежде чем оно лежать, повкалывать должно. А что я?! Я на пенсии. Свое отработал. Теперь оно мне лежать и положено. А где я лежу, кому какое дело. Ну, вот лежу я, никого не трогаю и тут чувствую, что кто-то меня берет за руку. Да ласково так берет! Ну, все, думаю, смерть пришла! Говорит: вставай, Николай Карлович Пономарев, пора, что зря лежать!
Лиза покачала головой.
– Клянусь тебе, Лиза! Я как подумал, что смерть. Решил, э, нет, не проведешь, притворюсь, что уже того, а потом, когда уйдет, ноги в руки, и только ищи ветра в поле. Ну а, конечно, смерть не – жена, поженился – не развестись! Но все равно жить-то хочется! А как же. И вот затаился и думаю, что хошь делай, а не откроюсь. И что ты думаешь?! Тут все и закрутилось!
И старик пустился в один из своих рассказов, таких, который, извините, сам Пушкин повторить не сумел бы.
По рассказу Коли выходило, что Галя приехала чуть ли не навсегда. Убедиться в этом Лиза могла сама и уже совсем скоро, так как Савельева со слов Коли передавала, что вместе с Галей сегодня придет в гости к Лизавете.
– Да где уже сегодня! – сомневалась Лиза. Сегодня не придут. Они, вон, сколько лет не виделись. Столько всего рассказать надо.
– Придут, вот увидишь. Может, вон, уже и собираются, – убеждал Коля, а сам косился на двор.
Лиза уже знала, что Коле не терпелось встретиться со знакомыми мужиками, а значит, он снова уйдет, и хорошо, если только до вечера. Бывало такое, что Коля мог только прийти переночевать и снова не появляться долгие недели. Лизе вдруг стало тоскливо, и она тяжело вздохнула, но и удерживать насильно старика не могла и не хотела.
Коле стало стыдно.
– Да, я это, ненадолго. Приду.
– Придете.
– И заметить не успеешь. И потом Савельева же придет. Обещала. Тогда я вам только мешать стану.
Во дворе послышался бойкий голос Веры.
– Лиза, гостей встречай, – весело кричала выпившая Савельева и вместе с Галей поднималась на резное деревянное крыльцо.
Коля от ликования не мог усидеть на месте, можно было подумать, что он выиграл миллион в лотерею. Теперь можно было со спокойной совестью на время оставить Лизу и идти похмеляться.
– Говорил я тебе! – ликовал Пономарев.
Лиза от неожиданности даже растерялась.
Счастливый старик смеялся.
Савельева открыла никогда не запиравшиеся здешние двери.
– Легки на помине, – выкрикнул Коля.
Лиза здоровалась и с женским любопытством смотрела на Галю.
Галя входила робко. Стояла тихонько, словно чего боялась. Было видно, что в незнакомой обстановке ей не по себе.
Лиза это почувствовала, сразу подошла к настороженной гостье и по-доброму, как только, наверное, может сердечный внимательный человек, взяла Галю за руки, все одно, как родную сестру, встретившись с ней после долгой разлуки.
Ничего Лизонька не говорила, а лишь только тепло улыбалась. И слетел, ей богу, так и упал камень с сердца Гали. Галя улыбнулась в ответ, словно знала Лизу всю жизнь.
– Устала, – сказала Савельева и села на стул. – Галя, подруга моя. Да ты уже, наверное, знаешь.
Савельева сдвинула брови на Пономарева.
– Много чести, – ответил Коля.
– Поговори мне еще! Небось, с три кучи наплел.
– Не ссорьтесь! – весело попросила Лиза.
– Да с чего взяла. Это я так, так.
– Чай пить давайте! – сказала Лиза и стала усаживать Галю за стол.
– Мы только поздороваться! – отказалась Савельева.
Лиза заметно погрустнела.
Савельева мысленно поругала себя и скорей взялась исправляться.
– Наливай, Лиза, грех отказываться, если от чистого сердца. Успеем, наливай.
– Ну, слава богу, слава богу, – закряхтел Коля и стал собираться за порог.
– Уже намылился, – бросила Савельева.
– Я туда и назад, туда и назад. Одна нога здесь, другая там.
– Знаем, видали. Еле потом на этих ногах приползешь.
– Не пить я, не пить. Только так, похмелиться!
– Пусть идет. Совсем ведь измучился, – вздохнула Лиза.
– Если моего увидишь, скажи, пусть готовится. Я ему устрою, и Ткаченко скажи.
– Скажу, все передам, – и Коля со спокойной совестью скрылся за дверьми
Коля ушел, а между женщинами протекал привычный разговор, один из тех многих, что случаются в жизни так часто, что не станем придавать тому разговору значение. Савельева не могла долго усидеть на месте и уже скоро стала собираться и обещала уже скоро прийти снова. Все виделся ей ее Ковалев, нетрезвый, с растрепанными волосами, скорее всего, где-нибудь на берегу Дона, а если точнее, непременно на лодочной станции, где у Ковалева был собственный гараж и катер с мотором.
На склоне правого берега Дона сразу против проходной стекольного завода за железной дорогой начиналась та самая лодочная станция. Словно в какой-то городок холостяков за последний десяток лет превратилась лодочная станция и была единственным домом для многих одиноких рыбаков. Узкие железные ступени и железные круглые перила помогали рыбакам и их гостям спускаться к гаражам с катерами и лодками. Над гаражами были устроены железные будки – дома рыбаков с верандами, с которых открывался вид на романтический умиротворенный пейзаж левого берега Дона – песчаные полоски дикого пляжа, гнувшийся на ветру камыш, заводь с плещущей рыбой.