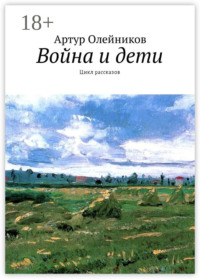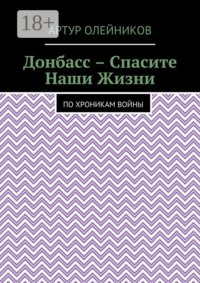Лизавета Синичкина
С братом они были непохожи и не только потому, что Муста был старше Зарифа на семнадцать лет. Все те тревоги, переживание и любовь, что Муста носил в сердце за своих родственников, отпечатывались на лице Мусты, и к пятидесяти годам его лицо было мягким и грустным, как у того мудреца, постигшего не только тайны, но и горести человеческой жизни. Все больше с каждым новым днем сердце Мусты задыхалось от груза, что судьба возложила на Мусту. Нет, не то, что Мусте было тяжело нести страшный груз, Муста боялся умереть вместе с кровоточащей раной на сердце оттого, что стало с Зарифом и, главное, как его воскресить.
Муста все так же хорошо одевался, но в его походке и отношении чувствовалось, что его мало волнует, что на нем надето. И в какой-нибудь серой рубахе он также был бы велик и прекрасен, потому что не бросил все на произвол судьбы и только делал, что вызывал проклятую королеву на поединок. Вот он и сейчас мог не дождаться брата и уехать и, может, таким образом сыграть на руку судьбе, но Муста, что бы это ни стоило, решил отпросить Галю на похороны отца, как будто в этом был заложен тайный смысл, шаг который будет вразрез судьбе. Муста верил, что с судьбой можно бороться, что судьба по сути бессильна и до тех пор не имеет над человеком власти, пока человек сам все не бросит на произвол. Судьба, как и положено королеве – безвольна и может принимать решения, если только ей позволят, позволите вы.
Муста будет стоять на смерть, у Мусты не было другого выбора, он понимал, что две жизни ему не прожить, и если сейчас не делать, что тебе подсказывает сердце, значит это уже будет никогда не сделать.
Зариф как будто что ли даже обрадовался брату, словно ему от него было что-то нужно.
Муста еле сдержался, чтобы обнять брата. О, как давно он даже не жал руку родному человеку, только на расстоянии и исподлобья.
«Что же значит этот неподдельный интерес, эта мимолетная радость», – думал Муста и готов был перевернуть мир, если только б знал, что это поможет.
Зариф как будто все понял и сказал, что надо.
– Мне нужны деньги! – сказал Зариф, хмурясь.
Ни Зариф, ни Галя, да и вообще никто в доме Фирдавси, включая самого покойного хозяина, никогда не работали и жили за счет денег, которые давал Муста.
Мусту не то, чтобы удивила просьба брата, а скорее насторожила, прежде Зариф никогда не просил ни на что, да и Фирдавси не просил. Проходил месяц, и Муста привозил деньги, которые, по сути, никуда особо не тратились. Фирдавси держал птицу, коз и с десяток баранов. Соль, сахар, чай, и все такое прочее тоже привозил Муста. И вещи тоже покупал из отдельных денег. Все деньги, которые давал старший сын, Фирдавси прятал в доме, не доверяя русским и панически боясь банков вообще и особенно русских. Когда менялись деньги, основная сумма пропала и теперь годилась только, чтобы обклеивать стены вместо обоев. Фирдавси страшно переживал, ругал проклятых русских, что его обманули, и пока Муста не привез отцу взамен испорченных денег две тысячи долларов, старик не находил себе места, вплоть до того, что не спал. Скорее всего, переживания насчет обмена денег и подкосили старика, прежде не знавшего, что такое болезнь. Хоть и были у старого Фирдавси теперь доллары, он все реже стал жаловаться на сердце и через несколько лет умер.
Те две тысячи долларов, что остались после смерти Фирдавси, перешли Зарифу, а Муста как прежде каждый месяц продолжал привозить некоторые суммы и все необходимое.
Муста и не думал, чтобы отказать брату, тем более что это было первый раз, когда он за много лет о чем-нибудь его спросил. Муста, может, только и ждал, чтобы брат обратился к нему с просьбой, но совершенно по понятным причинам, так, скорее, из любопытства с вопросом посмотрел брату в глаза.
– Тебя не касается, – отрезал Зариф.
Муста помрачнел.
– Ты мне должен, – зло сказал Зариф. Мне надо десять тысяч долларов и так, чтобы на следующей неделе. Я знаю, что у тебя есть.
Муста грустно смотрел в пол. Все, что у него было, и без того принадлежало всем им, Зарифу, сестрам, Юсуман с Фатимой и племянникам. У Мусты, кроме них, никого больше не было, но тогда Муста пожалел, что у него были деньги и положение в обществе, потому что, может, если у него ничего не было, Зариф ничего у него не мог попросить так зло и яростно, раня и без того намучившееся сердце старшего брата.
– Отец Гали вчера вечером умер! – сказал Муста, не поднимая головы. – Я прошу тебя отпустить жену на похороны к отцу и вообще погостить, чтобы поддержать мать.
– Дай денег и пусть едет!
Муста вдруг встрепенулся и поднял глаза на брата.
– А если бы не дал?
Зариф состроил что-то вроде улыбки, но мысли его были зловещи, чтобы вышло что-то светлое.
– Не поехала бы. Но не потому я против, а только потому, что ты не дашь денег. За все надо платить, а ты же у нас хочешь всегда казаться благодетелем. Вот и плати! Притом, что ты должен мне спасибо сказать! Я делаю тебе одолжение и даже больше проявляю доверие к тебе, предавшему свой народ!
– Не говори так, это не ты, – закричал Муста и хотел взять брата за руку, но Зариф спрятал руки за спиной и кривился, шля брату зловещие улыбки.
– Я отпускаю жену, а деньги прошу только через неделю, разве это не проявление доверия.
Муста от отчаянья закрыл лицо руками.
– Я знаю, ты привезешь, не обманешь, может, это то единственное, что не смогли вытравить из твоего сердца русские, и ты остался верен обычаям предков, исполнять обещание.
Муста встал на ноги, бледный и подавленный, его заметно качало.
– Нам надо ехать сейчас. Завтра утром похороны, пусть Галя простится с отцом.
Зариф, не говоря ни слова, ушел в свою комнату, что, наверное, значило, что он все сказал, и что будет дальше, ему все равно.
Сначала Муста хотел просить отпустить вместе с Галей и сыновей, но потом понял, что Зариф ни за что не согласится отпустить Карима с Омаром, и радовался тому, что хоть удалось договориться насчет невестки.
Муста просил Галю собираться, а сам пошел на воздух, чтобы успокоиться и быть готовым сесть за руль.
Галя долго не знала, что ей надеть, и надела, что было – какое-то красное платье, даже не платье, а скорее сарафан. Этот сарафан несколько лет назад подарил ей отец Гаврила Прокопьевич. Когда бы родители не приезжали к дочери, она их встречала в одном и том же: в голубых шароварах и черном платье, все одно, что в форме, которую невестке выдал старик Фирдавси.
– Что же, дочка, совсем нет у тебя ничего? – с грустью и болью спрашивал Гаврила Прокопьевич. Что ты, как солдат, два года в одном и том же.
– Некуда мне ходить, а по хозяйству удобно!
– А если в гости к кому? Ну да ладно, ты это, не серчай, придумаем, что-нибудь.
И в следующий раз привез дочке обнову, этот самый сарафан, что теперь Галя надела. Надела в первый раз.
Прикусите языки, бабы сплетницы, что на похороны отца Галя вырядилась, как на праздник.
Смотри, Гаврила Прокопьевич, дочь твоя к тебе собирается, платье, что ты сам выбирал, для тебя надела.
За двадцать лет Галя, если чем и изменилась, только что от работы и жизни стала еще крепче и некрасивей: раздалась, порябела и стала бояться, на что раньше совсем не обращала внимания. Боялась грома, боялась ветра, что мог распахнуть плохо закрытое окно, и Бога, что с прожитыми годами, хотим мы этого или нет, все чаще приходит на ум. А еще во многом так и оставалась ребенком. Семнадцатилетней девушкой Галя последний раз ходила на рынок и в магазин и, как ребенок, будь у него миллиард, соври продавец, что мороженое стоит цену в целую улицу, Галя поверила и отдала за мороженое столько, сколько порою не заработать за целую жизнь. И так практически во всем, как и ребенку, Гале было особо неважно, какой год на дворе, кто царь, кто министр. Хоть когда-то и привез Муста телевизор, его почти не включали, и он все равно, как сундук, без добра накрытый скатеркой стоял в уголке, что в такой сундук смотреть, если взять нечего. Так и с телевизором, что Фирдавси считал вещью пустой, даже вредной, вот и не смотрели. В доме Фирдавси было радио, которое почти никогда не выключалось и вещало на весь дом целые сутки, отчего на его «трескание» по большому счету уже никто не обращал внимания, все одно, что деревенский на корову и, наоборот, прислушивались, когда трансляции вдруг ни с того, ни с сего обрывались. Вот, как водопроводом бежит себе вода, и дела нет, а когда воду отключат, чаю так захочется, что невмоготу. Не работало радио, Фирдавси сам не свой, ходит и крутит, не сидится старику, а заговорит, и делу нет.
Как бы не показалось странным, за двадцать лет дальше роддома Галя никуда не ездила и не ходила. А собственно, куда ей было ходить. И так как Галя в семнадцать лет оценивала людей, так и в тридцать семь их видела. С возрастом она еще больше себя считала некрасивой и рассуждала так, что если человек посмотрит на нее без отвращенья, не отвернется, не обругает «коровой», значит это хороший человек. О том, что взрослый человек не ребенок, у которого что на уме, то, как говорится на языке, а такой, что обмануть и притвориться может, Галя не думала, потому что по большому счету кроме старика Фирдавси за последние двадцать лет ни с кем не общалась. А Фирдавси, отдать ему должное, невестку никогда не обманывал и не обижал. А собственно, что старику было с того. Так Галя и не научилась понимать, где ложь, а где правда, и обмануть ее и больно обидеть, как и ребенка, не составляло труда.
Муста смотрел на Галю, когда вез ее в родную деревню, и понимал это лучше других.
Особенно Галю было легко обмануть с помощью притворного тепла, потому что она и настоящего толком никогда не знала. А то, что дарил отец, за двадцать лет растерялось, выпало из сердца да закатилось куда-то под лавку, найди теперь. От всего этого Галя была уязвима, и повстречайся ей на пути проходимец, поверила бы бродяге и мерзавцу, как родному отцу, и открыла бы сердце лишь только за капельку, за кроху тепла, пусть и притворного.
IX
Из Гуляй Борисовки в Мечетку доехали скоро. Подъехали к Галиному родному дому, остановились. Как положено в доме, где был покойник, не гасился на ночь свет, были настежь раскрыты калитка и двери.
На Галю было тяжело смотреть. Больше испуганная, чем взволнованная, она долго боялась выходить из машины и ступить в отчий дом. Отец, как бы там ни было, до сих пор оставался для нее живым и здоровым. Вот только на прошлой неделе Гаврила Прокопьевич приезжал к дочери в гости, и сейчас она должна была идти и смотреть, как отец мертвый лежит в гробу. Никогда больше не приедет, не обнимет свою дочь, не улыбнется, не загрустит. Было страшно, так, что хотелось убежать, но надо было идти.
– Я приду через неделю, – сказал Муста и открыл Гале дверь.
Галя вышла из машины, сделала пару шагов и вдруг повернулась и хотела бежать, так было страшно и невыносимо сделать тот самый тяжелый первый шаг, когда перед глазами откроется мертвый родной человек. И прежде чем начать судить Галю, вспомните сами, если уже вам пришлось хоронить родных, как может быть непомерен и невыносим тот страшный миг, который порою не перенести в одиночку даже самым сильным из нас.
– Галя! – раздался у Гали за спиной голос матери Прасковьи Игнатьевны.
– Мама! – выкрикнула Галя так, словно только и ждала, где набраться сил. – Мама.
– Доченька, – отвечала Прасковья и рыдала навзрыд.
Галя бросилась в объятья состарившейся матери, и обе рыдали, и страх и горе уже казались не такими огромными, нет, горе не прошло, но уже казалось, что теперь с горем можно было справиться, потому что не в одиночку, потому что всем вместе.
– Приехала!
– Приехала, мама.
– Ну, пошли, пошли, ждет он тебя там. Сколько лет не была. Там лежит, дожидается. Все пришли. Валя пришла. Бабы там. Лида Савельева приехала. Помнишь тетку Лиду то?
– И Вера приехала?
– Да где ж там, и в праздники не жаловала, гляди, чтобы на похороны приехала. Но там кто ж его знает, говорят, Мишка их умер. А никто ни сном, ни духом, ни соседи, ни родня. Свидятся там все уж, нескучно, когда вместе. А все ж могла и приехать, никак крестный, не чужой ей был наш Гаврила Прокопьевич. Ну, главное, что ты приехала.
И мать вдруг снова заголосила и крепко держала дочь за руку, боясь, что дочка снова пропадет на много лет.
Прасковья Игнатьевна вела Галю к гробу отца, и можно было подумать, что была не в себе, потому что говорила вроде бы на мелкие и неуместные до горя темы, но в то же время такие спасительные, что значимость их было не переоценить.
– Фарша накрутили, котлеты будем делать, – говорила Прасковья, и когда думала, что нужно сделать, слезы на минуту-другую высыхали. Все, как отец любил. И ватрушки. Вот бы еще холодца, да ведь лето-жара. Он ведь, ты помнишь, как холодец любил. Боюсь, теперь заругает. Все переживаю. Ты как, дочка, думаешь, простит. За холодец то. А?
Галя не знала, как сказать, что ответить, чтобы не расстраивать мать, и целовала ее в щеки, соленые от слез.
– Вот и я думаю, что простит, – успокаивалась Прасковья. Он у нас незлобивый.
Прасковья привела Галю в дом.
Посреди комнаты на трех табуретках стоял гроб с Гавриилом Прокопьевичем. Красивый, в костюме, Гаврила был, словно живой, как будто сейчас встанет, и все как не бывало, от чего было как будто еще страшней. По обеим сторонам гроба с покойником сидели женщины с платками и опухшими, красными от слез глазами. Была здесь и Проскурина, словно и не стареющая, такая статная и дородная, и только мохеровый белый платок на плечах не пощадило время, и подъела моль. Зина, напротив, от печалей, горя из красавицы совсем превратилась в старуху. Уткнувшись в платочек, она привычно смачивала его слезами, за много лет она вовсе не видела радости, жизнь ей казалась сплошным несчастьем, и стоило только о чем-нибудь подумать, как слезы сами проступали на глазах. Последние годы, после того, как Ирину положили в больницу для душевнобольных, а Леонтий не выдержал и скоро, как забрали дочку, умер, Зина только и делала, что ходила по домам, куда постучались горе с несчастьем, и старалась помочь, чем могла.
Горела лампадка, большое зеркало над столом было завешано покрывалом. Женщины всхлипывали, и если вот так, со свежего воздуха, летом печаль так начинала крутить, что лето за окном становилось все равно, что мираж. И тогда беги, не беги, а вот этот гроб, эти табуретки, опухшие, красные от слез, женские глаза долго не выходят из головы, и лето кажется не летом и счастье не счастьем.
Прасковья стала гладить по голове покойного мужа.
– Вот, Гаврила, дочь твоя к тебе приехала, а ты. Что же ты! Ну, прости, прости, – и Прасковья целовала холодные закрытые глаза Гаврилы Прокопьевича.
Гале хотелось вот как мать поцеловать отца, но страх останавливал. Но чем дольше потом сидели над гробом, тем страха становилось меньше, и вот его совсем не оставалось, и только горечь и боль.
Говорили тихо, перешептываясь, спать не ложились, и каждая минута, приближавшая похороны, когда Гаврилу повезут на деревенское кладбище и навсегда укроют в могилу, резала сердце. К утру Прасковья была сама не своя. Собирались люди. Покойнику было под семьдесят, и пришедшие в основном были уже немолодые, пожившие люди, старики и старухи, что не год они собирались на похороны и на поминки старинных друзей и знакомых, и каждый новый раз, все более явно и бесповоротно говорили, что жизнь приближалась к концу.
Стояли, почти молча, повесив головы, и если заговаривали, все больше о коварстве смерти, что вот, мол, сегодня живет человек, а завтра на кладбище везут. И хотелось жить может во сто крат сильней, когда были молодыми.
Накануне прошел сильный дождь, и дорогу размыло. Грязь была такая, что вместо запланированного автобуса приехал трактор с прицепом.
Гроб с покойником, крест и крышку от гроба подняли и поставили в прицеп. Женщины сами не могли забраться на прицеп и их подсаживали мужики.
Прасковья качала головой, и чем ближе приближались к кладбищу, она становилась неспокойней, начинала сильней рыдать и обращаться к покойному мужу.
Трактор вез, не спеша, и аккуратно, вслед за прицепом шло с десяток стариков и старух, что водили дружбу с покойником, и чувствовали, что могут пройти по грязи два с лишним километра. Неуверенные, совсем уже дряхлые оставались во дворе и доме Столовых, не расходились и ждали, когда будут поминки.
Всего отчаяний было, когда приготовились забивать крышку гроба. Сорвав черную косынку, Прасковья бросилась к гробу.
– Гаврилушка, – стонала Прасковья и от слез почти не видела вокруг и, как раненая птица с распахнутыми крыльями, закрывала руками Гаврилу.
Мужики с молотком и гвоздями в руках, повесив головы, молча смотрели под ноги.
Проскурина с Савельевой Лидой, крепкой, сильной женщиной, отнимали Прасковью от гроба.
Мужики брали крышку гроба и, не произнося ни слова, быстро и намертво прибивали гвоздями.
Галя стояла в сторонке и каждый раз вздрагивала, когда молоток стучал по шляпке гвоздя и потом, когда в последний раз ударялся об крышку гроба.
Заколоченный гроб на веревке опустили в могилу и ждали, пока каждый бросит горсть земли.
Галя долго стояла над краем могилы и сжимала в руках рассыпчатую твердую землю, похожую отчего-то на горох, так она ударялась и скатывалась с крышки гроба.
Галя последней разжала руку, комочки твердой коричневой земли застучали по крышке гроба. Савельева Лидия Владимировна взяла Галю под руку и отвела от могилы и по дороге домой не отпускала.
Это была красивая сибирячка, выглядевшая на десять лет моложе своих пятидесяти семи лет. Характер ее был такой же непростой и крутой, как берега величественного сурового Енисея. Другая на ее месте давно уже упала бы, но только не Савельева. Вся воля и могучая сила бескрайних сибирских просторов разливалась и билась в сердце Савельевой. Судьба била ее, не щадя, словно самого заклятого врага, и плевалась и злилась, потому что, чтобы она не выдумывала, какие бы несчастья не слала бы на голову Лиде, эта женщина все равно, что великие сибирские реки не знают, что такое покорность, не склонилась перед судьбой. И навстречу камням и ветру всегда ступала с расправленной грудью.
На Дону Лида оказалась по воли сердца, когда наперекор судьбы, ослушавшись всех до последнего члена своей большой семьи, вышла замуж за молоденького авиатехника Мишу Ветеркова, завербовавшегося на север, как говорили, в погоне за длинным рублем.
– Не наш он! – говорила мать Лиды и не пускала.
– Ну что же, мама, делать, если люблю! – отвечала Лида и плакала вместе на пару с матерью
– Любишь!
– Люблю, мама, сил нет, как люблю!
– Не можешь без него, значит.
– Не могу, мама, режьте меня, что хотите, делайте, а больше ни за кого не пойду. Он у меня один свет в окошке. Не пустите, так знайте, сбегу.
И потом еще сама удивлялась, в кого это ее Вера такая настырная.
Когда провожали Лиду на родину мужа, нашептывали, если уж что, чтобы приезжала, что ей там одной в чужой стороне. И как в воду глядели, с двумя детьми на руках Лида осталась одна. Сколько не упрашивали мать с отцом, сколько не приезжали родные братья и сестры, Лида на родину не вернулась, взяла обратно девичью фамилию, поменяла фамилию детям, окончила техникум и всю жизнь только и делала, что упорствовала и билась с судьбою за счастье.
Ветерковы жили через дом от Столовых. Миша привез Лиду в родную деревню тридцать семь лет назад, в Мечетке родился их первый с Лидой ребенок, девочка, которую назвали Верой, и которую крестил Гаврила Прокопьевич. Молодая семья Ветерковых прожила в Мечетке немного больше двух лет и снова была увлечена куда-то на край света Михаилом. Всю жизнь Михаилу не сиделось на одном месте, и, наверное, было трудно отыскать место на карте советского союза, где он не работал бы. Когда родился второй ребенок, вступили в кооператив в молодом растущем Аксае. Получили трех комнатную квартиру. Но как моряк не может долго выдержать без моря, Михаил не мог прожить без новых впечатлений. Он был неугомонный, как южный ветер, и всего всегда ему было мало, мало денег, мало одной женщины и мало одной жизни, и он все свое время, отведенное ему Богом, положил, чтобы за раз прожить десять жизней сразу, и умер у черта на куличках в объятьях чужой женщины. Если кто в праве был его судить, так это только Лида. Не знаю, удалось ли Михаилу прожить несколько жизней за одну, но что он все делал, чтобы осуществлять свою мечту, было наверняка. Он умер, смеясь над судьбой. И поэтому, наверное, они с Лидой были настолько разные, насколько и похожи. Что гвозди делать из таких вот людей, как раз было про них.
Лидия Владимировна так никогда и не простила Михаила и не поехала его хоронить. Почему тогда приехала на похороны Гаврила Прокопьевича, где все, каждый дом, каждая улица напоминала о двух годах, прожитых с тем, кто ее предал и оставил с детьми на руках? Никому Лида про это не рассказывала. Но у кого было сердце, те и не спрашивали, потому что и без дурных пустых разговоров чутким бабам, знавшим Лиду, было видно, как она трепетала, когда память возвращала ее на тридцать семь лет назад. В те самые два года, что прошли в Мечетке, которые так и не смогла вытравить из сердца никакая обида.
X
Галя стала жить с матерью. Прасковье было тяжело видеть, что стало с ее единственным ребенком. И Прасковье казалось, что из каждого угла на нее смотрит Гаврила и корит, что она его когда-то не переубедила, и дала свое согласие на свадьбу дочери. В памяти Прасковьи все эти годы жила та семнадцатилетняя Галя, что была ласкова, и когда была дома, не отходила от матери ни на шаг, и как бы ее не обижали деревенские, не сторонившаяся улицы. Теперь же казалось матери, что ее Галя стала все равно, как монах, который отрекается от всего мира и наглухо запечатывается в своей келье. Так и Галя закрыла когда-то свое сердце на замок, а ключ потеряла.
Не улыбнется, не шелохнется без уважительного повода, все равно, как солдат во время команды «ровняйся». И только что-нибудь делать, чтобы занять мысли и сердце, и без смеха, без огонька, как оно бывало раньше, а все больше, как автомат. Так как вроде бы хлопоты по хозяйству – ее главный смысл жизни, и больше ничего у нее в жизни нет.
Мать не находила себе места, и что ни ночь, приходил во сне к Прасковье покойный муж Гаврила Прокопьевич.
Сидит Гаврила за столом, весь такой пасмурный, в черном костюме, и грустно смотрит, как его Галя за хлопотами по хозяйству света белого не видит, как любовь и счастье прошли стороной, и так неспокойно и стыдно старику, потому что он считает, что отчасти повинен, что не сложилась жизнь дочери. Но еще страшней, что он умер и поделать уж больше ничего не может, чтобы хоть на миг сделать дочку счастливой, и только теперь одна надежда на жену.
Проснется Прасковья, представит, как, может, он, ее Гаврила Прокопьевич, на том свете мучается, и уж больше не уснуть. И только об одном мысли, как ей сердце дочери открыть, как заставить ее оглянуться, увидеть, что, вон, на улице лето и соловьи поют, чтобы она бросила свою тряпку да пошла, погуляла, да хоть поговорила с ней, да хоть что-нибудь.
Уезжая, Лида Савельева оставила адрес своей дочери Веры. Просила писать в надежде, что, может, ее неугомонная дочка образумится. Просто звала к себе в гости. Замуж она так и не вышла, работала продавцом на рынке. С ней жил внук, старший сын Веры, да и сама дочь иногда заглядывала. Средства и место принимать гостей были, только приезжайте.
И с каждым новым днем, проведенным с дочерью, Прасковья все больше и больше думала о приглашении Лиды, об адресе Веры. Как в детстве, когда Вера приезжала к бабкам на каникулы, была с ее Галей не разлей вода. Какая Вера бедовая, какая затейница, и если уж взяла бы в оборот ее Галку, гляди, и распечаталось бы сердце, ожила бы ее Галочка.
И мать решила, что снова в дом мужа дочку не пустит и отправит к Вере.
«Как потом на том свете она будет смотреть Гавриле в глаза? – спрашивала себя Прасковья. – Если ничего не сделает для их дочери, когда могла. Не понравится, не захочет, пусть возвращается, что хочет, пусть делает, но с начала пусть съездит».
Казалось матери от отчаянья, что так сам ее Гаврила Прокопьевич просит, и для этого приходит во сне. И так Галя оказалась в Аксае у своей подруги детства Веры Савельевой.
XI
Приученная вставать в семье мужа с рассветом, Галя проснулась раньше всех, пришла в комнату, где спал Ткаченко, и тихо, боясь дышать, долгие часы сидела в ногах сопевшего, не спешившего просыпаться, мужчины.
Сначала Галя боялась ехать к Вере, боялась за сыновей, которые последние три года не замечали мать в упор. Боялась мужа, хоть никогда он с ней за двадцать лет так и не обмолвился словом. Боялась, потому что Галя отчего-то считала, что мужа надо бояться. Боялась Бога, что он теперь ее накажет за то, что не вернулась к мужу, и отправилась за «тридевять земель». Всего прежде боялась сердечная Галя. Но, совсем немного пробыв в одном доме с матерью, и, вспомнив, что такое материнское тепло и забота, вдруг, что ли даже осмелела. На мгновенье подумалось несчастной Гале, что можно любить, что ей только тридцать семь лет, да чего только может не подумать женщина, если ей на сердце пролить капельку тепла, а если такое сердце, что толком тепла и не знало, кроме родительской ласки. Все равно, что алкоголь для непьющего, как говорится, и одного запаха хватит, чтобы вскружить голову и отправить на приключения. Так и с сердцем Гали. И вот она собралась и поехала, но только, как поезд дрогнул, и перрон с матерью стал исчезать, Галя затряслась от ужаса, и все те страхи, что прежде все равно, как веревки связывали ее по рукам и ногам, с новой силой врезались в сердце. Свобода так негаданно, без какой либо подготовки и предупреждения, свалившаяся Гале на сердце, стала давить Галю, все равно, как тот пресс. Да такой степени, что она вжала плечи и боялась поднять головы. И если в тот момент ее кто взял бы за руку и повел хоть на смерть, она подчинилась бы и пошла, как пошел бы потерявшийся маленький ребенок, протяни ему руку даже страшное бесчувственное чудовище, лишь бы только не остаться одному. Вот так и Галя прибилась сердцем к первому встречному. Если на месте Ткаченко оказался бы другой, Галя полюбила бы другого, ничего не прося взамен, и только, может быть, тихо плакала, натыкаясь на равнодушие. Потому что как бы там ни было, у Гали билось женское сердце в груди, которое, если полюбит, хоть топчи его, будет слепо тянуться к поругавшим его ногам, продолжая до последнего надеяться и любить. Поэтому Галя не уходила, притом, что уже почувствовала, что ее не любят, но продолжала с какой-то собачьей преданностью смотреть не на ухоженного Ткаченко, все равно, как если бы он признался ей в любви. И вдыхала резкий запах немытого мужского тела, казавшийся ей теперь теплым и родным.