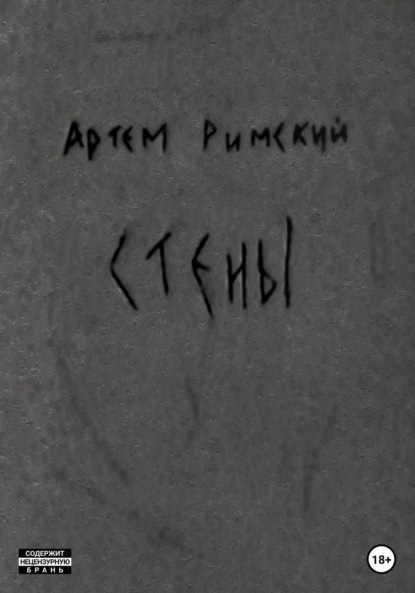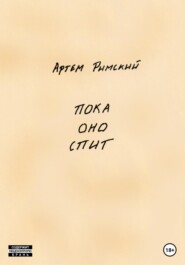По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стены
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да и вся она, в целом, выражала какое-то зловещее равнодушие. Вот правда, смотрела на нее в тот момент, и по лицу ее читала: да хоть потоп. Взяла ее за руку, она в ответ слегка шевельнула пальцами.
– Алиса, девочка ты моя золотая, – ничего другого я не придумала.
– Больно, Эль, – ответила она, прикрыв глаза свободной рукой. – Больно.
Секунд тридцать мы молчали. Я знала, что ей больно, и знала, что мои слова вряд ли ей помогут.
– Знаешь, чего мне иногда хочется? – заговорила она. – Выдуманной боли, несуществующей. Вот так, посмотришь иногда на некоторых людей, и прямо зависть берет – такая у них боль красивая. Выдуманная боль, прямо литературно расписанная, просто смотришь на эту боль, и оторваться не можешь. Хочу себе такую боль. С ней комфортно. Чувствуешь, что душа подсыхает, что свежести просит – так вот же оно – мое страдание. Сейчас, сейчас, сядем, погрустим, выпьем немного, и сразу так хорошо станет. Самое классное, что прогрессировать можно, плацдарм для фантазии просто огромный – додумывай и додумывай. Страдания, по сути, и нет, оно искусственное, создано от скуки, значит и накидывать на него можно все дальше и дальше. А может, не от скуки, может костюм такой. И, черт возьми, мода ведь на эти костюмы не проходит не в одни времена, не в одном обществе. Одним нравится играть в психологов, другим выглядеть несчастными жертвами страданий, в которых они как рыба в воде. Ведь встречала и ты таких людей – они же повсюду, в своих костюмах. И зачастую, такой интерес вызывают, так интересно послушать их душещипательную историю, разделить с ними печаль, так это мило. Да, Эль, выдуманная боль – это прекрасно. Ничего общего с настоящей болью, ничего. С уродливой и черной настоящей болью. Такую не любят, от такой отворачиваются. Люди, живущие с реальной болью – это раковая опухоль в организме правильного общества. Отверженные. Я так устала. Просто устала. Я так хочу себе костюм из искусственной боли.
У меня слезы текли по щекам, но я не хотела, чтобы Алиса их видела, ей бы они не помогли. Я поцеловала ее руку и отошла к окну.
– Пойдем в «Туман» сходим, а? Алиса, нужно немножко расслабиться, нужно посмотреть на выдуманную боль, нужно позавидовать. Зависть – тоже чувство, а чувствовать необходимо, сама знаешь.
– Знаю, – она усмехнулась. – Не хочу в «Туман». У меня пиво есть, будешь? Давай лучше дома посидим.
– Давай так.
Она сползла с дивана и вышла на кухню.
Алиса жила на четвертом этаже, окна ее квартиры выходили в небольшой сквер на другой стороне улицы. Помню, я бесцельным взором окинула площадь сквера, и задержала взгляд на парне, который сидел на одной из лавок, обхватив голову руками и глядя себе под ноги. Но в следующую секунду он встал, и я узнала… Мика Флеминга. Мне даже показалось, что он взглянул в мою сторону, после чего быстрым шагом двинулся прочь из сквера.
– Смотри-ка, Мик Флеминг, – сказала я Алисе, принимая от нее бокал пива. Сказала совершенно равнодушно, потому что и не особо удивилась. Чему, собственно, было удивляться?
– Чипсы будешь? – Алиса словно не услышала мое замечание.
– Ага. Странный он какой-то. Симпатичный, но чересчур странный.
Мы выпили по два бокала пива, поболтали на отвлеченные темы, несколько раз Алиса даже засмеялась. Когда я уходила, мне показалось, что она немного развеялась, что мой визит пошел ей на пользу. Вообще, я редко ошибаюсь в ее эмоциях, но в тот раз, был именно такой случай – я ошиблась. Думаю, как только я переступила ее порог, и она закрыла за мной дверь, тоска накатила на нее с удвоенной силой, и она вновь плакала.
Был десятый час вечера, начинали сгущаться вечерние сумерки. Честное слово, когда я приняла решение зайти в «Туман», я совершенно не думала о Мике. К тому же, в последнее время, он там уже практически не появлялся. Однако же, когда я вошла в бар, Мик находился именно там, по привычке сидел за стойкой, перед ним стоял бокал пива.
– Привет, Мик, как дела? – поздоровалась я.
Он вскинул на меня удивленный взгляд, даже непонимающий, словно я вырвала его из глубокого раздумья. Секунды три он тупо смотрел мне в лицо, затем покачал головой и отвел глаза.
– Привет, – равнодушно сказал он. – Нормально, а ты как?
– Да тоже ничего. Можно кофе выпью рядом с тобой?
– Да, пожалуйста, – ответил он, продолжая избегать моего взгляда.
Я попросила у бармена кофе. Мне быстро стало ясно, что Мик не настроен на беседу, более того, я почувствовала, что мое присутствие для него некстати. По бесцельно скользящему взгляду, по неловким движениям его рук, в нем читалось моральное напряжение. Было в нем что-то неумолимо отталкивающее. Вернее в том, что он скрывал в своей душе. Что-то творилось с ним, но тогда меня это не особо интересовало. А потому выпив свой кофе, и перекинувшись с ним еще несколькими фразами приличия, я оставила его в столь желанном гордом одиночестве, и отправилась домой.
Я помню вот что: когда я вышла из «Тумана», мне вдруг показалось, что только что я сидела рядом с человеком, который исполнен лжи. Может, именно это так отталкивало в нем?
Ложь. Что она способна делать с людьми, в какие крайности она способна бросать наши души. В какой культ мы иногда возводим ложь, чтобы припрятать собственные недостатки, собственные страхи. На какие же извращенные приемы способен наш разум, чтобы подогнать реальность под ложь, чтобы утвердиться в этой лжи. Не можем мы жить без нее, так и не научились быть искренними, так и бредем по иллюзорно гладкой дороге лжи. Все те же грешники, претендующие на святость, и уверенные, что способны шевелить чужие сердца. Все так же мы принимаем падение за подъем, по-прежнему несемся в бездну, и жаждем прихватить с собой еще кого-нибудь. Все так же мы жаждем любви, все так же наш эгоизм не позволяет нам смириться с правдой. Всех нас согнула ложь. Потому что боимся страданий, и глупо нас за это упрекать. Да, похоже, правда всегда идет рядом со страданием. Чем больше в жизни страданий, тем больше познаешь себя. Чем больше познаешь себя, тем ближе подходишь к правде. Так неужели, все-таки, это не шутки? Неужели страдания действительно очищают душу? Неужели внутренняя чистота дается лишь путем страданий? Господи, как же не хочется в это верить, но все чаще я убеждаюсь именно в этом.
В субботу, тридцатого мая, в двенадцатом часу ночи, когда я уже собиралась лечь спать позвонила Алиса. Голос ее был взволнованным, даже возбужденным, при этом еще и звенящим, словно она вот-вот сорвется на крик.
– Эль, приходи, пожалуйста, прямо сейчас, – говорила она.
– Что случилось, дорогая? С Джери все в порядке?
– Все в порядке, я сегодня не ездила в Арстад. Пожалуйста, Эль, приходи скорее.
– Сейчас буду, не волнуйся.
За два с половиной года, это был первый раз, когда Алиса не поехала к ребенку. Я даже представить не могла, что могло произойти, чтобы сорвать эту плановую поездку. Когда я оказалась в квартире Алисы, она только дверь успела за мной закрыть, и из глаз ее в два ручья хлынули слезы. Прямо у входной двери, она просто упала на пол, заливаясь слезами, и обхватила руками мои колени. Это было ужасно – скажу честно. Один из самых тяжелых вечеров в моей жизни, столько боли было в ее плаче, столько душевного крика, столько мольбы… конкретный такой выплеск, понимаете? Я села рядом, и крепко прижав ее к груди, плакала вместе с ней. Честное слово, мне хотелось хоть горсть ее боли забрать себе, хоть самую малость. Первые пять минут, она не могла сказать ни слова, ее давили рыдания, душераздирающие стоны вырывались из ее груди. Она старалась успокоиться, чтобы заговорить, но вместо слов, вновь был лишь глухой стон.
– Я… я не хочу… не хочу так жить, – наконец произнесла она, захлебываясь в слезах, и с силой вцепилась мне в плечи. – Я не хочу жить, Эль.
Я лишь крепче обнимала ее и плакала вместе с ней, что еще я могла сделать? Слова были лишними. А Алиса продолжала рыдать навзрыд и повторять, что она не хочет жить. Слышать и видеть это, было невыносимо, врагу не пожелаешь. Она была похожа на извергающийся вулкан, она билась в судорожных стенаниях, и вместо лавы, смешиваясь со слезами, из нее потоками лилась боль. Кошмар этот длился минут двадцать. Когда же она немного успокоилась, я помогла ей подняться и лечь на диван, на котором валялось несколько помятых бумажных платков, мокрых от слез. Я собрала их и вышла на кухню, чтобы выбросить, и в пакете с мусором я увидела… петлю. Настоящую петлю, словно опытный палач ее смастерил. Меня сначала обдало могильным холодом, а затем бросило в жар, ноги подкосились, я опустилась на колени и осторожно, словно, она могла взорваться, вытащила эту отвратительную вещицу на свет. Петля была из тонкой, но прочной, гибкой веревки; чувствуя невероятное отвращение, я швырнула ее обратно в пакет, пакет завязала, и, открыв входную дверь оставила его на площадке, чтобы выбросить на обратном пути. После чего бросилась к подруге, и крепко прижала ее к себе. Слезы уже были лишними.
– Вон там… – слабым голосом говорила она, указывая на массивный кронштейн под потолком в гостиной, оставшийся еще от предыдущих жильцов. – Я повесила ее туда вчера утром, а сняла… сняла буквально, перед тем как позвонить тебе. Я просто… просто два дня ходила и любовалась на нее… дразнила себя, провоцировала. Смогу или нет? Сидела вот здесь же, и смотрела на нее… и так она влекла… и так страшно. И словно говорила мне: «Давай же, чего смотреть, чего время тянуть? Давай же, сделай это». И так страшно…
– Милая, что ты с собой делаешь? До чего ты дошла? Зачем ты так себя доводишь? – говорила я, заглядывая в ее измученные глаза.
– Страшно, Эль, – продолжала она шептать высохшими губами. – Везде страшно. Куда не сунься – везде страшно. Эта боль, и эта любовь… они воюют за меня. Только ради любви к сыну, я и существую.
– Если ради любви, значит не существуешь… а живешь самой настоящей жизнью, – прошептала я.
– Все это лирика. Ты даже не представляешь, что мне рассказала петля за эти два дня, даже не представляешь. На сколько, ранее скрытых от меня, вещей, она открыла мне глаза. Все философы и психологи мира не смогли бы открыть мне такие глубины сознания, какие открыла петля. Кусок веревки смог вытащить из меня наружу то, что казалось похороненным в моей душе. Бездушный кусок веревки оказался самым душевным и умным собеседником. Я ведь не боюсь смерти, Эль. Правда, не боюсь. Это мне петля сказала. Но также петля сказала мне, что я очень люблю жизнь. Сказала, что я очень хочу жить. Но я не чувствую этого, Эль. Наоборот, я чувствую, что не хочу жить. Но петля не могла соврать, просто не могла.
Повторю: это была одна из самых зловещих ночей в моей жизни, именно на эмоциональном уровне. И не из-за того, что Алиса смерть в гости приглашала, а из-за того, что призрак душевных терзаний, который уже давно поселился в этих стенах, разгулялся в ту ночь не на шутку. Какой-то неприкрытый мрак человеческого естества царил в стенах ее квартиры. Эта чернота казалась материальной, хоть руками хватай. Мы тонули в этой черноте.
– Эль… не было никакого замыкания проводки в подвале. Даже не знаю, какие идиоты там работали, что сделали такое заключение. И я не была пьяной в хлам. Это я сожгла дом. Я спустилась в подвал с канистрой бензина и подожгла его, а потом вышла и смотрела на то, как умирают остатки надежд, что теплились в моем наивном сердце. Смотрела и уже не чувствовала боль, а наоборот, какой-то животный кайф играл в моей душе. Эль, самое страшное, что поступок этот был обдуманным, я хотела это сделать, и я это сделала. Последствия были не обдуманны, понимаешь? Я сама подписала себе этот приговор, только я, и никто другой. Я сама, лично я, лишила себя счастья воспитывать своего ребенка.
Эта новость, спустя два с половиной года после пожара, стала для меня настоящим шоком. Я помню, подняла голову и глазами, полными ужаса, смотрела ей в лицо, а ее, казалось, пустой взгляд был устремлен в потолок. Теперь вы понимаете, что чувствовала Алиса? Тот ад, через который она проходила, оказывается, был результатом не несчастного случая, а ее последовательных действий. Вот, что убивало ее больше всего: ее роковая роль. Некого винить, кроме себя, некого ненавидеть, кроме себя, некому желать смерти, кроме себя.
– Хоть бы убил меня кто, раз сама не могу. Петля сказала, что я хочу жить, так почему я этого не чувствую? Да и кто меня убьет? Кому я нужна? Меня и убить не за что, – говорила она.
А на следующий день мне позвонил Бен Флеминг и попросил встретиться. То, что я услышала от него, добило меня окончательно.
Июнь 2015
Рассказывает Антонио Сальгадо
В былые времена он приходил буквально каждый день. Не могу сказать, что он был крайне обаятельным человеком, чтобы вызывать желание близкого знакомства. Придет, поздоровается, улыбнется, закажет коньяка и пива, раз пять попросит повторить, перекинется несколькими фразами, иногда поболтает. Покидал бар он неизменно в настроении, гораздо худшем и мрачном, нежели в каком приходил. У меня часто складывалось впечатление, что алкоголь вытесняет из Мика веселость и позитив, если они вообще в нем имелись. По мере опьянения, если он был настроен на беседу со мной, или же с кем-то из гостей, также расположившихся за стойкой, Мик вел себя, обычно, двумя способами. В первом случае он все пытался склонить собеседника в русло каких-либо мрачных философских рассуждений, на темы тщетности бытия, бессмысленности нашего существования, черных закоулках человеческого сознания и тому подобного. Во втором случае, Мик начинал сыпать ирониями и сарказмом, порой доводя свои насмешки до степени крайнего цинизма, очень часто приближаясь к некой черте, за которой, лично для меня, шутка уже переставала быть шуткой, а превращалась в откровенное кощунство. Причем насмехаться он любил над своими же собственными мыслями и идеями, о которых еще два дня назад говорил с выражением крайней серьезности, близкой к некоему типу отчаяния. В основном, для окружающих людей, как для мужчин, так и для женщин, Флеминг был человеком отталкивающим. Несмотря на наличие приятной внешности, стильной одежды, образованности, достатка. Какой-то мрак от него исходил, причем не интересный мрак, а такой, о котором хочется остаться в полном неведении.
Так было ранее. А примерно последние два года до интересующего вас периода времени, он стал появляться гораздо реже – раз в две недели, может, или раз в месяц. И ни о какой, даже отдаленной, заинтересованности в общении с кем-либо не было даже речи. Он превратился в отшельника, в изгоя по собственной воле, и еще сильнее провоцировал атмосферу неприятия, которой сторонились другие люди. Его одиночество не выглядело примитивным способом привлечения внимания, как это часто бывает, но в то же время, у меня создавалось впечатление, что больше всего Мик жаждет именно внимания. Хоть сам он об этом едва догадывается. И еще одно: если во времена постоянной дислокации в «Тумане» он всегда вел себя адекватно, сколько бы ни выпил, то в последнее время он стал напиваться до такой степени, что когда я вызывал ему такси, с трудом вспоминал номер своего дома.
* * *
Четвертого июня пятнадцатого года, в дождливый вечер четверга, я работал один. «Туман», в принципе, бар небольшой, много народа не вместит, но в тот день не было вообще никого, возможно, из-за сильного дождя, что лил целый день. Когда я увидел входящего Мика, то даже порадовался, что хотя бы не буду коротать этот пасмурный вечер в полном одиночестве. Мик был одет в черные джинсы, черную майку, и черную кожаную куртку – сама чернота. Куртку, видимо, одел, чтоб хоть немного защититься от дождя, но это мало помогло – зонта с ним не было, и промок он до нитки. Бегло оглянул помещение и заметил с легкой улыбкой:
– Ого, какая вечеринка. Меня только и не хватает.
– Привет, Мик, – улыбнулся я в ответ, и протянул ему руку. – В такую погоду не лень тебе гулять, а?