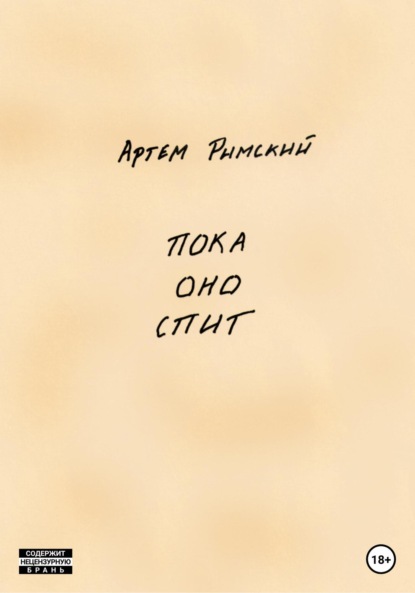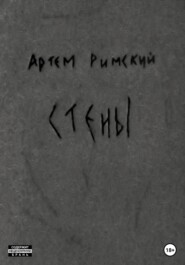По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пока Оно спит
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Аренду сегодня заплатила. Все нормально. Сентябрь получился на удивление хорошим. Еще бы октябрь и ноябрь так, и я расплачусь за долбаный «фольксваген». Я до сих пор не понимаю, какой черт попутал меня купить его. Я скучаю по «мазде». Наверное, я его продам, когда расплачусь за него. Он большой и неудобный. И бесит меня. Вот так. Сегодня разбирала отчеты за прошлые годы. Наша с тобой маленькая антикварная лавка понемногу, но прибавляет. Двое часов продала сегодня. Еще какая-то бабка купила, наконец, эту долбаную картину с подсолнухами. Она явно пришибленная. Первый раз приперлась ко мне два месяца назад. Говорит: «Сколько стоит»? Я говорю, что шестьдесят франков. Она отвечает, мол, дорого, если б пятьдесят, то еще можно. Я скинула до пятидесяти пяти, она сказала, что подумает. Приходит через месяц, спрашивает: «Еще пятьдесят пять?» Говорю, что да, а она мнется и башкой машет. «Нет, дорого» – говорит, и уходит. Я отвечаю: «Ладно, забирайте за пятьдесят». А она говорит, что все равно дорого. Ну, сука, думаю, пошла ты на хрен. А сегодня приходит и спрашивает: «Ну что дочка, пятьдесят еще»? Говорю: «Нет, поздно. Шестьдесят». Она давай хныкать, что в прошлый раз я за пятьдесят была готова отдать. А я ей отвечаю, что раньше думать надо было. Минут пятнадцать ныла и торговалась, но я с шестидесяти так и не сдвинулась. И что ты думаешь? Забрала. Отсчитала шестьдесят и забрала. Может мне и должно быть стыдно, но мне не стыдно. В общем, на работе пока порядок, и я, в принципе, довольна. Меньше четырех тысяч франков я не зарабатываю. Нормально? Я считаю, что да. А если верить Лине, которая все склоняет меня последовать ее примеру и продавать шмотки, то и три – это отлично. Вот и думай.
Катрина отошла от окна и приоткрыла крышку кастрюли, вода в которой уже закипала.
– Сколько там ему кипеть надо? Минут пятнадцать? Пятнадцать, – прочла она на упаковке. – Вина охота.
Она принесла из спальни откупоренную бутылку красного вина и налила себе половину бокала. Сделала небольшой глоток и поморщилась.
– Гадость. Вкусная гадость.
Вдруг она дернулась всем телом, быстро поставила бокал на стол и, побежав в прихожую, затараторила:
– Я же совсем забыла. Ты не поверишь, что я нашла сегодня. Разбирала старые бумаги на работе. И в какой-то папке… – она вернулась в кухню, роясь в своей сумочке, – да… и в какой-то папке, наверное, за позапрошлый год… нет, наверное, все-таки за одиннадцатый. Да куда же я ее засунула, мать твою… скорее за одиннадцатый, потому что на озере мы были в одиннадцатом, – Катрина продолжала судорожно рыться в сумочке, выбрасывая на стол все, что попадалось ей в руки. – Да что за издевательство, а?! – вскрикнула она, и тут же хлопнув себя ладонью по лбу, отбросила сумочку в сторону и вновь бросилась в прихожую. – Вот дура, я же ее в карман пальто сунула перед уходом. Сейчас!
Катрина вытащила из кармана пальто небольшого размера фотографию, провела по ней пальцами правой руки и медленно прошла в спальню. Она села на кровать и с нежной улыбкой устремила взгляд на фото, на котором она была запечатлена в объятиях высокого, светловолосого парня. Они стояли по пояс в некошеной траве на фоне Карленского озера.
– Твоя любимая фотография. Говорил, что на ней запечатлено истинное счастье. Хорошо там было. Я думаю съездить туда как-нибудь. Знаешь, даже в Альпах мне не так понравилось, как в Карлене, и это действительно был наш самый классный отдых. – Катрина усмехнулась. – Потом ты ее потерял, я помню, ты очень расстроился. Весь дом перерыл вверх дном, а, оказывается, забыл в магазине. Или специально выложил и вылетело из головы, кто знает. Пусть тут стоит, рядом с тобой.
Катрина придвинулась к тумбочке у изголовья кровати, на которой стояло фото того самого парня в черной рамке. Катрина попыталась поставить найденное на работе фото рядом, оперев о стену, но оно тут же соскользнуло и упало на пол.
– Что не так? – с удивленной улыбкой произнесла она. – Тогда знаешь, что сделаем? – она подняла фото и положила под подушку. – Раз так, значит, теперь эта фотография будет всегда со мной, как раньше была с тобой.
Катрина провела ладонями по лицу, после чего устремила пустой взгляд в пространство и словно выпала из реальности. В течение нескольких минут ни одна мышца не дрогнула на ее лице и для стороннего наблюдателя такая безжизненность на лице живого человека выглядела бы крайне жутко. Из этого состояния Катрину вырвал стук подпрыгивающей на кастрюле крышки.
– Черт, мой рис! – вскрикнула она и кинулась в кухню.
Поужинав, она налила себе второй бокал вина и вернулась в спальню.
– Не вкусно, – сказала она. – Не буду больше дурью страдать. Как взбредет что-то в голову. Девчонки из торгового центра зовут в бар, я отказываюсь – неохота. Мне в последнее время что-то скучно в подобных местах. Все эти разговоры, шутки и улыбки меня утомляют, и вместо расслабленности я начинаю чувствовать усталость. Не знаю, когда это началось, не помню, но затворнический образ жизни кажется мне более подходящим. По крайней мере, в настоящее время. Ты считаешь, что это неправильно, – она взглянула на фотографию и несколькими глотками выпила вино. – Лучше с книгой поваляться или фильм посмотреть.
Катрина откинулась на подушки, вино ударило ей в голову, по телу расползлась приятная усталость, а мысли немного затормозились.
– А лучше, просто ляжем спать, – сказала она спустя минуту. – Что-то я сегодня устала сильно, или вино разморило. Приму ванну и лягу спать.
Она вновь села на кровати и склонив голову, запустила руки в волосы.
– Да… – проговорила Катрина, – все неправильно. Все неправильно.
Спустя десять минут она лежала в горячей ванне и из глаз ее текли слезы. Катрина не рыдала, не всхлипывала и не вздрагивала. Слезы текли сами собой – это был беззвучный плач, к которому она уже привыкла и который не могла контролировать в минуты тишины и полного уединения. Он подкрадывался аккуратно и деликатно, отступая, когда Катрина нуждалась в концентрации или находилась в обществе, но безжалостно выходил наружу, как только чувствовал, что нет для этого преград. Никогда не было истерик или просто эмоциональных взрывов, был лишь этот беззвучный плач, который не нарушал тишины, и с которым выходили боль и тоска, накопившиеся за долгий одинокий день, чтобы на следующее утро вновь начать собираться по крупинкам. На протяжении двух лет со дня гибели мужа был лишь этот плач…
– Что я должна делать, подскажи мне как-нибудь, дай какой-то знак, я не знаю. Не знаю, что я должна делать и как должна жить дальше. Я в полной растерянности, за два года я не нашла ни намека на ответ, как я должна преодолеть эту боль. Я ведь знаю, что ты устал видеть меня в таком состоянии, что ты устал видеть мои слезы, устал видеть страдания, устал понимать, что твое отсутствие является прямым их следствием. Те, кто пережил подобное, говорят, что боль никогда и никуда не уйдет, что с ней просто нужно научиться жить, научиться прятать ее и обезболивать. И я знаю, что ты бы сказал то же самое, что ты искренне желаешь, чтобы я жила нормальной полноценной жизнью… но я не могу. Я не могу отпустить тебя, я не могу дать тебе отойти хоть на шаг, не могу представить, что ты сможешь уступить место чему-то другому. Господи, как же это эгоистично и мерзко, но я не могу. Я просто схожу с ума, просто… я просто очень хочу, чтобы ты был рядом, чтобы ты был со мной. Чтобы сейчас раздался твой голос «ты там еще не замерзла?», чтобы, когда я вышла, на тумбочке у кровати стояла чашка горячего чая, хочу заняться с тобой сексом и потом уснуть рядом с тобой. Господи, я просто до сих пор не принимаю, что этого уже никогда не случится, я действительно этого не принимаю. Может ли быть такое, милый? Может ли человек быть настолько обезумевшим? Дай мне какой-нибудь знак, я прошу тебя. Я ведь теряю себя, растворяюсь и чувствую, как жизнь проходит стороной, не воспаляя во мне никаких желаний и стремлений. Все безразлично и все не имеет значения. Я как будто четко понимаю, что все приходит и уходит, так зачем за что-то цепляться? Я читала, что этот страх рождает боль потери, что я подсознательно боюсь приобрести что-то новое из страха вновь это потерять. Но проблема в том, что, как мне кажется, я не испытываю никакого страха, я не боюсь, я просто не хочу. И знаю, что ты говоришь мне сейчас, что это неправильно, знаю, что ты сейчас киваешь головой, а из твоих глаз тоже текут слезы, когда ты слышишь эти слова. Я просто очень тебя люблю. Я люблю тебя больше этой жизни… вот и все. Кругом какая-то бесконечная суета и замкнутый круг. И счастье не купить в том мире, где даже искренняя улыбка стоит очень дорого и многим не по карману…
Проснулась Катрина не от звука будильника и не от ощущения рассвета. Она проснулась от чувства неприятного подергивания в области желудка и странного ощущения необъяснимой тревоги. Она лежала, не открывая глаз, и пыталась понять, что эту тревогу могло вызвать, вспоминала события предыдущего дня и составляла их цепочку, но никакого определенного ответа, оправдывающего чувство беспокойства, найти не могла. Попытки вновь уснуть оказались безуспешными.
Ни душ, ни чашка горячего кофе так и не сняли далекой тревоги в ее душе, более того, Катрина чувствовала, что эта тревога нарастает.
Выйдя на улицу раньше обычного, Катрина вновь ощутила такой любимый ею аромат осенней свежести и глубоко вдохнув, некоторое время держала этот воздух в легких, в надежде, что он растворится в ней и своей свежестью рассеет все страхи и беспокойства. По дороге на работу она пыталась отвлечься от назойливого чувства с помощью музыки и наушников, а открыв магазин, сразу принялась наводить порядки на витринах и под ними. Затем принялась протирать и без того блестящие картины и часы, статуэтки и посуду. Она рассчитывала, что активность сможет ее отвлечь, но не тут-то было – беспокойство не отпускало ее ни на минуту, и волнами накатывалось на ее нервы. Оно также выражалось в крайнем раздражении в обращении с покупателями, чего Катрина старалась себе не позволять. Но сегодня она не могла совладать с эмоциями и замечала, что в людях ее раздражает абсолютно все: от внешности до их вопросов, которые казались девушке бесконечно глупыми. Ближе к двум часам дня она уже подумывала, не выпить ли ей какой-нибудь успокоительной таблетки, которых она всячески избегала и сторонилась. Она чувствовала, что не может усидеть дольше двух минут, все мысли путаются и, ворвавшись в голову бессвязным вихрем, таким же вихрем ее покидают. Все валилось из рук, и она даже заметила легкую дрожь в кистях. Но больше всего Катрину пугало то, что она ничем не могла объяснить эту тревогу, и в то же время, это ощущение казалось ей невероятно знакомым и вполне логически объяснимым.
Катрина решила сходить выпить кофе в ближайшее кафе, и постаралась незаметно пройти мимо соседнего павильона, где ее приятельница Лина торговала дешевой одеждой, не стыдясь называть свой товар эксклюзивными вещами. Вообще Катрина не стремилась к подобному обществу, но Лина умела бесцеремонно игнорировать чужие желания. Также и в этот раз Лина настигла Катрину уже у входа в кафе, состроила обиженную гримасу, и упрекнула Катрину в том, что та не пригласила ее с собой. Катрина же в отличие от своей знакомой была девушкой тактичной и сказать, что хотела пообедать в одиночестве, не решилась. Лина была тридцатипятилетней женщиной с бегающими зелеными глазами, взгляд которых порой казался абсолютно несфокусированным, крашенными рыжими волосами, обладала пышными формами, и как многие знавшие ее люди между собой отмечали, формы эти компенсировали количество извилин в ее голове. То, что Лина неизменно тараторила, и что было трудно ее переслушать, Катрину обычно не смущало; сказать по правде, она просто не слушала, а воспринимала речи знакомой как звуковое сопровождение во время обеда, что не сильно отличалось от звучания радио или телевизора. Как признавалась себе Катрина, эта женщина на самом деле вызывала в ней то чувство умственного превосходства, которое, как и любому другому человеку, ей было приятно в себе поддерживать. Обычно не испытывая излишнего дискомфорта в ее обществе, сегодня Катрина, ввиду своего эмоционального состояния, была бы очень рада не видеть Лину, однако судьба распорядилась иначе.
– Два года мы не виделись и не общались. Помнишь его, такой невзрачный и незаметный был всегда. Оказывается, он открыл в Санторине какой-то бизнес, связанный с парфюмерией, и уже два года живет там, а сейчас приехал родителей навестить. Может и врет насчет бизнеса… но зачем ему врать? Тем более, мне. Короче, в сети нашел меня и написал, – тараторила Лина. – Написал, что я отлично выгляжу, что совсем за два года не изменилась, хаха, как думаешь, изменилась, хаха, или нет?
– Нет, – едва скрывая раздражение, коротко ответила Катрина.
– Хаха, не знаю даже… ну так вот, и пригласил меня на выходных встретиться где-нибудь, – тут Лина перешла на шепот и слегка наклонилась в сторону Катрины, а затем с нотой торжественности и, закатив глаза, добавила: – И я не знаю, что мне теперь делать, хаха.
Речь Лины практически всегда, чуть не ежесекундно сопровождалась гримасничаньем, закатыванием глаз и идиотским смешком, и сейчас, каждый раз слыша этот смешок, Катрина чувствовала, что кто-то словно дергает в ней туго натянутую струну. Последний же вопрос Катрина слышала уже раз в двадцатый, на который она, как обычно, ответила пожиманием плечами, и как обычно, услышала одно и то же продолжение.
– Я думаю, стоит сходить, хаха. Почему бы и нет? К тому же пару флаконов духов, я думаю, он не зажмет, а? Хаха.
– Не боишься, что муж когда-нибудь все узнает? – спросила Катрина, сделав усилие, чтобы поднять трясущейся рукой чашку с кофе. Лина это заметила, но не заострила внимания, а вновь наклонившись ближе, сказала тем же торжественным шепотом:
– А кто же ему скажет, хаха? – она резко откинулась на спинку стула. – Ты же не скажешь, а? Хаха.
Катрину передернуло от отвращения, которое она не смогла сдержать во взгляде, брошенном на собеседницу. Та, возможно, и заметила это выражение, но, опять же, пропустила мимо.
– А что такого, хаха? Это же просто чашка кофе. Хотя, может… – вновь наклон и торжественный шепот, – может и бокал вина, хаха. А может… – вновь резкий бросок тела на спинку стула, – может и не один, – и тут она дала волю заливистому хохоту.
Отсмеявшись и отпив зеленого чая из своей чашки, она продолжила, дернувшись всем телом:
– Я все-таки заставила его вчера установить этот заборчик. Этого идиота вообще тяжело заставить что-то делать, хаха, тем более делать хорошо. Это относится ко всему, что он должен делать, хаха. Так вот… у меня теперь аккуратный белый заборчик вокруг крыльца, прямо как в американских фильмах показывают, хаха.
– У многих такие заборы во всей стране, – прокомментировала сквозь зубы Катрина.
– Да, но мой лучше всех, – отчеканила Лина, и выражение ее лица приняло самодовольно бескомпромиссное выражение, от которого у Катрины чуть не свело судорогой лицо. – И пусть, хоть один ублюдок, будь то малолетний идиот или пьяный урод, пусть хоть пальцем попробуют его испортить, нарочно или случайно. Я возьму пистолет моего мужа – я знаю, где он лежит, – и пристрелю урода к хренам собачьим, я клянусь. Я имею право, – тут к ней вернулась ее привычная манера, – это ведь будет проникновение на частную собственность, хаха. Ты должна мне кое-что пообещать.
– Что? – Катрина напряглась.
– Завтра ты заедешь ко мне и посмотришь на мой забор, хаха.
– Даже не знаю, получится ли у меня, – Катрина повела головой, стараясь дать понять, что эта идея ей совсем не по нраву.
– А почему не получится? У тебя что, дела какие-то? Сидишь дома безвылазно, хаха, – Лина, говоря это, широко распахнула глаза и в данный момент действительно была похожа на идиотку.
Катрине же, после последних слов собеседницы, стоило немалого усилия сдержать себя и не швырнуть чашку горячего кофе в лицо, которое вызывало в ней сейчас безграничное отвращение.
– Мне пора, – сказала она, но Лина удержала ее за руку.
– Нет, не пущу, пока не пообещаешь приехать завтра и полюбоваться на мой заборчик.
– Лина, мне пора, отпусти… я подумаю, – Катрина еле сдерживалась, чтоб не перейти на грубость.
– Пообещай, пообещай… – заверещала Лина, состроив жалобную гримасу; левой рукой она удерживала Катрину, а открытой ладонью правой яростно забарабанила по столу, – пообещай, пообещай, пообещай…
С каждым «пообещай» кровь в висках Катрины пульсировала все сильней, и она чувствовала, что еще секунд пять и Лине будет точно не до заборчика.
– Черт, обещаю! – гневно крикнула Катрина, и любой другой человек абсолютно справедливо расценил бы такое обещание как «иди на хрен!», после чего развернулась и быстро пошла прочь. Любой другой, но не Лина, которая осталась сидеть со своим идиотским выражением лица и с распахнутыми глазами.
Когда Катрина вернулась в свой магазин ее трясло и колотило, как при лихорадке. Лицо горело, все внутри нее клокотало, и сердце было готово вырваться наружу. Она яростно бросила сумочку через витрину в сторону своего стола, но чувствуя, что этого недостаточно и не подчиняясь никакому самоконтролю, пробежала на склад, где схватила первую попавшуюся вазу и с размаху швырнула ее в стену. Грохот разбитого фарфора и звук падающих на пол осколков, немного отрезвил ее. Она стояла и тяжело дыша смотрела на то, что секунду назад было дорогой вазой и чувствовала, как состояние истерии постепенно отступает. Когда дыхание понемногу выровнялось, Катрина присела на стоявшую рядом коробку, обхватила голову руками и попыталась окончательно взять себя в руки. И вдруг она поняла. Поняла, с чем было связано ее сегодняшнее беспокойство. Это было предчувствие. Обострение интуиции, предупреждавшее ее о том, что вот-вот что-то произойдет. И отнюдь не хорошее.