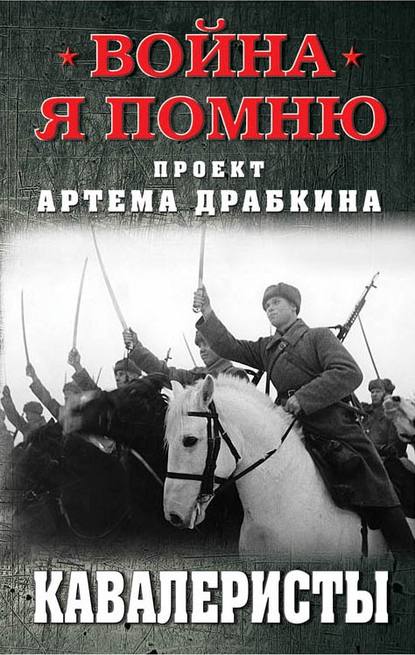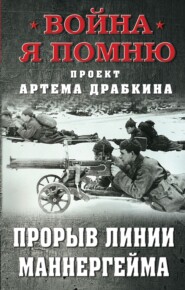По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кавалеристы
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Встречали хорошо. Чехи особенно хорошо встречали, потому что мы с ними союзниками были. А эти вот, мадьяры… Это… Им в 56-м году законно попало. Они же там вели себя так. Потом ведь, во время боя не до встречи. Если передышка есть, то пять-шесть человек выйдет.
Здесь не было забот. Заботы были, как бы не убили и как бы мне не умереть после ранения. Вот гады.
– Расскажите про свои ранения? Как лечили?
– В первый раз, я во время подготовки… В ночь мы должны перейти, и я проверял, можно ли в конном строю пройти речушку. Проверил все, стали… и вдруг самолеты на Москву летят. Обычно они пролетали, а тут увидели, что здесь можно переправу… и сбросили бомбы. И я попал под одну бомбу. Коня у меня убило, а я был ранен. Вот ведь был порядок дурной! Из чужой дивизии тебя санитар не перевяжет. Прошу перевязать девчонок, и одна только согласилась перевязать моим бинтом мне рану. И уже обработку-то раны сделали в медсанбате. Я пришел, доложил то-то и то-то. «Ну, ладно, – говорит. – Давай езжай, лечись». И что я задержался… У меня было ранение в правую руку, одно и не насквозь, а с маленькой пленочкой, кожа осталась. Все-все, заживает. Все, готовлюсь выписываться. Вдруг вскрывается рана. Потом я врачам говорю: «Слушайте, нет там какой-нибудь тряпки?» А рентгенов же тогда не было, это сейчас везде. Я говорю: «Вы разрежьте на сквозную, посмотрите, промойте».
– Это, кажется, не положено.
– Ну что, я столько месяцев лежу и…
А задел-то меня один раненый. Врач говорит: «Слушай, ты ходишь, у тебя ноги целы (на ногах зажили ранения, которые были). А мы сестру гоняем по палатам. Ей надо работать, а она: того позови, того позови». Захожу в палату: «Петров, на перевязку!» Лежит один, уже лет 45: «Ха! Мы воюем, старики, а молодежь посыльными служит». Я возвращаюсь: «Вера Ивановна, больше не пойду. Пошли ваш…» Халат сбрасываю.
– Чего, Коль?
– Да вон…
– Хе, сейчас он будет перед тобой извинения просить. Сходи-ка за ним… Где?
– Вон там, в углу.
Пригласил на перевязку. Он пришел, я еще в халате стою.
– Коль, а ты что халат не снимаешь? У тебя когда перевязка-то была?
– Три дня назад.
– Дак, тебе пора! Ну-ка, раздевайся!
Я разделся, стали перевязку мне делать. Он:
– Прости! Я ж думал, что ты нераненый.
Я говорю:
– Неужели не видишь? Неужели будут здоровых парней держать посыльными?
– Ну, я подумал чего-то… Подумал, вон старики воюют, а… Прости, прости…
– Ну, ладно.
Врач:
– Вот, простил?
– Простил.
– Слава богу!
Потом я говорю:
– Ты задел.
– Я никак не мог догадаться, что ты раненый, просто ходишь.
– Где был этот госпиталь?
– В Лукояново в Горьковской области. В школе там был.
– Как были ранены во второй раз?
– Второй – во время боя. Они пошли в атаку, мы стали отбиваться. И в этот момент по мне дали очередь. Вот я до сих пор не понимаю. Мне кажется, что, гад, не русский ли дал очередь. Может быть, и… Я сразу к своим, и тут командира эскадрона убили. Я к нему подошел – он уже мертвый. Тут перевязку мне сделал один лейтенант, и самого ранили, лейтенанта Барсукова. Командиров-то, офицеров-то никого нет – я решил подвиг совершить, остался. Не знал, кто будет. И заявляется майор Мыслин. Он был зам, а потом командир полка. Он меня и награждал. Вернее, представлял. И только после войны, после девятого! А ранен я был 2 апреля. Откуда он запомнил, что я сделал?! Вот, говорят, в царской армии фамилию дали, и все, без всякой писанины. А у нас: кричал я «За Сталина!» или не кричал?
– А вы кричали «За Сталина!»?
– Кричали. Это, оказывается, традиция. Вернее, в царской-то армии тоже кричали. Только слова: там «За царя!», а тут «За Сталина!» Когда я как-то… Показали… Я говорю: «Дак мы орали то же самое». Только одно слово измененное было. Как там… «За веру…» В общем, последнее слово «царя» мы стали кричать «За Сталина!» А больше, конечно, матом… И везде, во всех наградных листах: «С криком…»
– Что было дальше, после ранения?
– Дальше… Пока ранило, пока пришел заместитель командира полка, я пошел в госпиталь. Так как ранение-то у меня было легкое, числилось (кости не нарушены – считалось легким), меня расположили в госпитале для легкораненых.
– Где это было?
– Это было в Чехословакии. Деревню не помню. И сестра… Я говорю:
– У меня кровотечение.
– Выдумал! Кровотечение!
И стоит с кем-то болтает через окно. Весной, в апреле-то уже тепло.
– Сестра, у меня кровотечение!
Потом думаю: «Ах, гад!» Наметил мероприятие. Взял, подвинул к себе костыль: она проходить будет, я ей врежу костылем. Это ж было раньше: если больной, раненый сестру ударит, она бежит жаловаться. Я помню практику-то! Я ее ударил, и она побежала. Тут же прибегает врач, мужчина. И последнее, что помню, он сказал: «Мало он тебе голову, черепок-то не разбил! Он же потерял… Скорей…» И пошло… И я уже больше в этом госпитале не оказался. Я уже попал в госпиталь для тяжелораненых. Опять неудачно: он эвакуировался, вернее, переезжал на новое место, а больных всех вывозили. И мы, двое, оказались нетранспортабельными из-за потери крови-то. Потом за нами прилетел самолет. Его положили, меня посадили, потому что я еще мог сидеть. Спрашивают:
– Ты можешь сидеть?
– Могу.
Я, значит, сел, и нас в Дебрецен привезли. В Дебрецене нас сразу в этот госпиталь, в котором я вылечился. А тот умер по дороге, его уже выгрузили из самолета.
Тут уже внимание было проявлено. Очень… Врач оказалась землячкой. Я, правда, вначале не понимал, о чем она беспокоится. Мне надо было влить кровь, и она говорит: «Коля, землячок, а ты как к евреям относишься?» Я говорю: «Я ко всем одинаково отношусь. А чего?»
– Кровь-то у нас только еврейская.
– Ну и что? Она поможет?
– Да, поможет.
Здесь не было забот. Заботы были, как бы не убили и как бы мне не умереть после ранения. Вот гады.
– Расскажите про свои ранения? Как лечили?
– В первый раз, я во время подготовки… В ночь мы должны перейти, и я проверял, можно ли в конном строю пройти речушку. Проверил все, стали… и вдруг самолеты на Москву летят. Обычно они пролетали, а тут увидели, что здесь можно переправу… и сбросили бомбы. И я попал под одну бомбу. Коня у меня убило, а я был ранен. Вот ведь был порядок дурной! Из чужой дивизии тебя санитар не перевяжет. Прошу перевязать девчонок, и одна только согласилась перевязать моим бинтом мне рану. И уже обработку-то раны сделали в медсанбате. Я пришел, доложил то-то и то-то. «Ну, ладно, – говорит. – Давай езжай, лечись». И что я задержался… У меня было ранение в правую руку, одно и не насквозь, а с маленькой пленочкой, кожа осталась. Все-все, заживает. Все, готовлюсь выписываться. Вдруг вскрывается рана. Потом я врачам говорю: «Слушайте, нет там какой-нибудь тряпки?» А рентгенов же тогда не было, это сейчас везде. Я говорю: «Вы разрежьте на сквозную, посмотрите, промойте».
– Это, кажется, не положено.
– Ну что, я столько месяцев лежу и…
А задел-то меня один раненый. Врач говорит: «Слушай, ты ходишь, у тебя ноги целы (на ногах зажили ранения, которые были). А мы сестру гоняем по палатам. Ей надо работать, а она: того позови, того позови». Захожу в палату: «Петров, на перевязку!» Лежит один, уже лет 45: «Ха! Мы воюем, старики, а молодежь посыльными служит». Я возвращаюсь: «Вера Ивановна, больше не пойду. Пошли ваш…» Халат сбрасываю.
– Чего, Коль?
– Да вон…
– Хе, сейчас он будет перед тобой извинения просить. Сходи-ка за ним… Где?
– Вон там, в углу.
Пригласил на перевязку. Он пришел, я еще в халате стою.
– Коль, а ты что халат не снимаешь? У тебя когда перевязка-то была?
– Три дня назад.
– Дак, тебе пора! Ну-ка, раздевайся!
Я разделся, стали перевязку мне делать. Он:
– Прости! Я ж думал, что ты нераненый.
Я говорю:
– Неужели не видишь? Неужели будут здоровых парней держать посыльными?
– Ну, я подумал чего-то… Подумал, вон старики воюют, а… Прости, прости…
– Ну, ладно.
Врач:
– Вот, простил?
– Простил.
– Слава богу!
Потом я говорю:
– Ты задел.
– Я никак не мог догадаться, что ты раненый, просто ходишь.
– Где был этот госпиталь?
– В Лукояново в Горьковской области. В школе там был.
– Как были ранены во второй раз?
– Второй – во время боя. Они пошли в атаку, мы стали отбиваться. И в этот момент по мне дали очередь. Вот я до сих пор не понимаю. Мне кажется, что, гад, не русский ли дал очередь. Может быть, и… Я сразу к своим, и тут командира эскадрона убили. Я к нему подошел – он уже мертвый. Тут перевязку мне сделал один лейтенант, и самого ранили, лейтенанта Барсукова. Командиров-то, офицеров-то никого нет – я решил подвиг совершить, остался. Не знал, кто будет. И заявляется майор Мыслин. Он был зам, а потом командир полка. Он меня и награждал. Вернее, представлял. И только после войны, после девятого! А ранен я был 2 апреля. Откуда он запомнил, что я сделал?! Вот, говорят, в царской армии фамилию дали, и все, без всякой писанины. А у нас: кричал я «За Сталина!» или не кричал?
– А вы кричали «За Сталина!»?
– Кричали. Это, оказывается, традиция. Вернее, в царской-то армии тоже кричали. Только слова: там «За царя!», а тут «За Сталина!» Когда я как-то… Показали… Я говорю: «Дак мы орали то же самое». Только одно слово измененное было. Как там… «За веру…» В общем, последнее слово «царя» мы стали кричать «За Сталина!» А больше, конечно, матом… И везде, во всех наградных листах: «С криком…»
– Что было дальше, после ранения?
– Дальше… Пока ранило, пока пришел заместитель командира полка, я пошел в госпиталь. Так как ранение-то у меня было легкое, числилось (кости не нарушены – считалось легким), меня расположили в госпитале для легкораненых.
– Где это было?
– Это было в Чехословакии. Деревню не помню. И сестра… Я говорю:
– У меня кровотечение.
– Выдумал! Кровотечение!
И стоит с кем-то болтает через окно. Весной, в апреле-то уже тепло.
– Сестра, у меня кровотечение!
Потом думаю: «Ах, гад!» Наметил мероприятие. Взял, подвинул к себе костыль: она проходить будет, я ей врежу костылем. Это ж было раньше: если больной, раненый сестру ударит, она бежит жаловаться. Я помню практику-то! Я ее ударил, и она побежала. Тут же прибегает врач, мужчина. И последнее, что помню, он сказал: «Мало он тебе голову, черепок-то не разбил! Он же потерял… Скорей…» И пошло… И я уже больше в этом госпитале не оказался. Я уже попал в госпиталь для тяжелораненых. Опять неудачно: он эвакуировался, вернее, переезжал на новое место, а больных всех вывозили. И мы, двое, оказались нетранспортабельными из-за потери крови-то. Потом за нами прилетел самолет. Его положили, меня посадили, потому что я еще мог сидеть. Спрашивают:
– Ты можешь сидеть?
– Могу.
Я, значит, сел, и нас в Дебрецен привезли. В Дебрецене нас сразу в этот госпиталь, в котором я вылечился. А тот умер по дороге, его уже выгрузили из самолета.
Тут уже внимание было проявлено. Очень… Врач оказалась землячкой. Я, правда, вначале не понимал, о чем она беспокоится. Мне надо было влить кровь, и она говорит: «Коля, землячок, а ты как к евреям относишься?» Я говорю: «Я ко всем одинаково отношусь. А чего?»
– Кровь-то у нас только еврейская.
– Ну и что? Она поможет?
– Да, поможет.