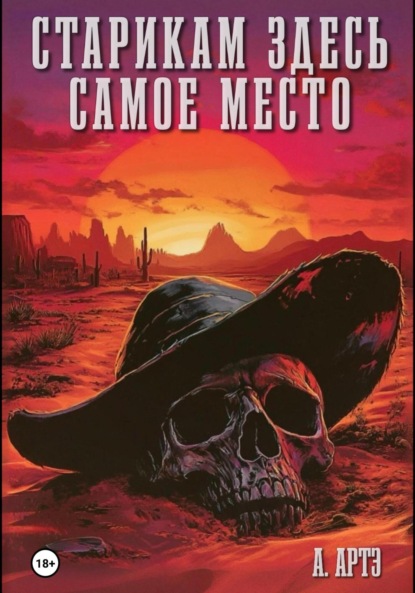По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ленард недовольно сдвинул брови, скрестил руки на груди и уставился в земляную стену окопа с торчащими из нее корнями. Прошлое своими полуправдивыми картинками снова замелькало у него перед глазами, и он, зная, что навязанный просмотр продлится не один миг, терпеливо вздохнул. Снова одни и те же воспоминания… Дом с белой облупившейся краской на стенах, кресло-качалка на крыльце, надломленная ступенька с торчащим гвоздем, до которой почему-то никому не было дела. Отец всё время возился то с лошадьми, то с коровами, то с курами. Постоянно чинил ограждение загона, крышу амбара, раскидывал сено или убирал дерьмо. От него всегда плохо пахло – даже после того как перед ужином он намылится по пояс и опрокинет на себя целое ведро воды. Охнув от внезапной прохлады, возьмет грязное полотенце, с облегчением вытрет лицо, оботрет тело и задумчиво посмотрит на свои мозолистые руки, словно благодаря их за тяжелую работу.
Дома всегда был ужин, стол не ломился от блюд, но разнообразие было. От пирога с ревенем до «горных устриц», которые маленький Ленард просто обожал, пока старший брат не сказал ему, что это не что иное как жаренные в масле бычьи яйца. Семья Прайсов традиционно, усаживаясь за стол, читала молитву и благодарила Бога за возможность поесть, что младшему сыну казалось дикостью: ведь благодарить нужно было отца, который сидел во главе стола и с закрытыми глазами проговаривал заученные слова.
Ленард уважал отца, но не гордился им, понимая в глубине души, что тот – хороший честный человек, который ведет хозяйство, содержит семью, но на большее не способен. Небольшой участок, дом, амбар, сарай, загон – этого Ленарду было недостаточно. И он не мог понять, почему это устраивало его семью. Даже спросил как-то раз у отца, почему они не живут как Эбигейлы, но отец только строго посмотрел в ответ. Ленард решил больше не задавать вопросов, но думать об этом не перестал.
Усадьба Эбигейлов, местных зажиточных плантаторов хлопка, представляла из себя огромную территорию с бесчисленным количеством построек и бескрайними белыми полями, расчерченными ровными бороздками, на которых от рассвета до самого заката трудились негры. Мальчик каждый раз пытался их сосчитать по дороге в город, куда он ездил с матерью за продуктами, но всегда сбивался. Он готов был терпеть что угодно: тряску, палящее солнце, нравоучения, – лишь бы снова увидеть этот огромный белоснежный особняк, на террасе которого можно было разглядеть дам и джентльменов, красиво одетых, смеющихся, беззаботных. Женщины в пышных платьях сливочных оттенков и с кружевными зонтиками, которые, подумать только, защищали не от капель дождя, а от лучей солнца, прогуливались по саду среди пестрых клумб, постриженных кустов и причудливых деревьев, вереницы которых тянулись с обеих сторон, своими сплетающимися кронами образовывая протяженную тенистую аллею – длинную зеленую прохладную арку. Она вела от ворот и до самых ступенек террасы особняка, на которой, развалившись, закинув ногу на ногу, поигрывая тростью и выпуская в воздух сигарный дым, сидел сам мистер Эбигейл.
Все люди, прибывающие в роскошных лакированных экипажах, почтительно кланялись хозяину дома, тот привставал, дежурно приподнимал соломенную шляпу и жестом приглашал гостей к столу, на котором высились бокалы и серебряные ведерки с бутылками. Затем мистер Эбигейл щелкал пальцами и давал указания подскочившему к нему человеку с черной кожей, одетому в белую рубашку с бабочкой и с серебристым подносом в руках. Не в пример тем, что трудились в это же время на полях, под палящим солнцем. Они монотонно, до боли в спине топтали влажную землю, собирая белые пушистые «снежки» и отделяя их от шелухи, отправляли в плетеные корзины или большие мешки, которые висели на их поясах как фартуки. Бесконечная усадьба Эбигейла заканчивалась, виднелся лишь силуэт огромного белого дома, который и сам словно был собран из множества пушистых комков хлопчатника. Затем и дом пропадал из виду, и мальчик, трясущийся в семейной повозке, с восторгом восстанавливал увиденное в памяти, давая имена и придумывая биографии всем гостям этого невероятного для Ленни дома. Он представлял, как общается с ними, дамы смеются его шуткам, а джентльмены дружески хлопают по плечу. Все вместе они пьют то, что услужливо наливает из бутылок черный слуга в белой рубашке, а мистер Эбигейл учит маленького Ленарда курить сигару…
– Я скоро приеду, мистер Эбигейл.
– Что? – отозвалась мать, развернувшись на козлах, но продолжая держать поводья в грубых тощих руках.
Они уже пять минут как проехали усадьбу и выбрались на неровную грунтовую дорогу, а мальчик и не заметил, как начал грезить вслух.
– Ничего, – насуплено сказал он.
– Я тебе тысячу раз говорила: не смотри на тот дом! Это дом плохого человека!
– Что в нем плохого?
– Он использует труд этих несчастных людей, привезенных сюда из-за океана. Он их принуждает. Силой.
– Я не заметил, что они несчастливы.
– А они такие. Он их угнетает. Он считает их своей собственностью.
– Если он их угнетает, почему же они не восстанут и не убьют его? Их же больше.
– Они не могут.
– Значит их устраивает.
– Знаешь, что, сынок? Мистер Эбигейл – рабовладелец. Это грешный человек, развязный. Он далек от Бога. Мы не такие. И не будем больше на эту тему.
– Зато мы близки.
– Мы близки. И нам зачтется это!
– На том свете.
– Все верно. Мы скромные верующие люди. Я провожу в молитвах по несколько часов, твой отец помогает нуждающимся, а брат – и вовсе будущий пастырь. Мы заслуживаем божью благодать. Мы у Бога будем первыми.
– А на земле последними, – еле слышно проворчал мальчик.
– Ленард Эдвард Прайс! Заткнись! И не смей мне перечить! Иначе больше никогда не поедешь со мной в город!
Хэлен Прайс знала, как заставить Ленарда замолчать. Она отвернулась от непутевого младшего сына и продолжила погонять единственную лошадь, тащившую их с сыном в город, где уже какое-то время при церкви жил четырнадцатилетний Бенджамин. Любимый сын, надежда семьи.
Ленард нахмурился, скрестил руки и раскинул ноги, расположившись, среди уложенной мешковины и деревянных дуг, которые при необходимости превращали повозку в фургон, на котором его родители добрались в эти места с восточного побережья. Кажется, из Бостона, где мать, дочь священника, прониклась идеями аболиционизма и непонятным сочувствием к чернокожим рабам. Тема эта никогда его не волновала, да и сейчас, разглядывая порванный шнурок ботинка, Ленард думал о том, что совсем не любит своих родителей. Он уважал отца, но грубую ограниченную мать и глупого старшего брата едва мог терпеть и с огромным трудом мирился со своим положением младшего члена семьи.
Тема религии и Бога была в их доме главной, разговоры о праведной жизни и всепрощении были обязательным фоном к реальности. Но мать могла впасть в ярость от любого пустяка и отстегать младшего сына розгами, а старший брат довольно ухмылялся, смотря на это. Он умышленно мог разбить тарелку или чашку и свалить все на младшего брата, которому неизменно попадало. Понять, зачем это нужно было Бенджамину, Ленард не мог, да и не особенно хотел. Он обнаружил в себе черное чувство злорадства в тот момент, когда узнал, что Бенджамина изнасиловал отец Стефан. Мать тогда рыдала весь вечер, отец уехал разбираться со святым отцом и в итоге убил его, а Бенджамин достал пыльную бутылку из погреба и познакомился с виски.
Ядро со свистом нырнуло в окоп и врезалось в грунтовую стену всего в пяти футах от ног новобранца. В первый раз так близко. Парень встрепенулся, неловко вскочил и побежал, смахивая с себя комья земли.
II Койл.
Сквозь грязные стекла маленьких окон в кабинет проникал слабый свет. С утренней неохотой он подсветил золотую жидкость – недопитую каплю на дне заляпанного стакана. Шоколадные стружки табака свалились к сгибу вчерашней газеты: вчера их рассматривали в большую сколотую лупу вместе с патроном 44-го калибра.
Наконец, косые, рассветные лучи предсказуемо выстрелили из-за рамы окна и угодили туда, где еще пару минут назад лежала голова, а сейчас покоился наскоро скатанный матрац с подушкой внутри. Мужчина довольно откашлялся и поднялся на ноги, чтобы спустя два шага плюхнуться в старое скрипучее кресло. Пространство снова наполнила рассветная тишина – давний друг. Шериф Койл положил ноги на стол, достал папиросу, медленно поднес к ней огонь и со вздохом опалил.
Шериф любил курить не спеша, со смаком, любуясь, как дым элегантно завивается вокруг полосок света, проходит сквозь них, ломается, облаком собирается у потолка. Тогда Койл закладывал руки за голову и удовлетворенно всматривался в дымную взвесь. Толстые пальцы сцеплялись в замок, а Маркус Койл осознавал, что, пожалуй, все в порядке. Целый округ, который представлял собой квадрат со стороной, равной 90 милям, был в его власти. Номинальной, но все же. Он, Койл, не президент, не губернатор и даже не федеральный маршал. Он – шериф, у которого под контролем три небольших городка в самом сердце Техаса. Каждые понедельник, среду и пятницу он привычно заезжал в каждый из них, остальное же время проводил в своей крепости на одном из холмов Парадайза. Именно здесь шериф чувствовал себя дома, спал прямо в кабинете и ни в чем не нуждался.
Сегодня Койлу хватило пяти часов, чтобы выспаться и очень соскучиться по табаку. Вдох горького дыма получился особенно сладостным. Первая папироса. Следующая уже не будет такой, даже в сочетании с кофе. Обеденная сигара чуть всколыхнет чувства, вечерняя трубка аристократично проводит еще один день – спокойный, томительный, долгий. Завтра будет такой же. А за ним еще и еще – совсем как шпалы в бесконечном полотне железной дороги, которую, получая по несколько центов в день, строили китайцы, которых, в свою очередь, «строил» отец Маркуса. Надо бы к нему заехать – проведать старика.
Густой горячий воздух вдоль путей и запах угля в детстве, затем – холодный пот бестолковой войны с кровавыми пятнами перед глазами, и наконец – блеск шестиконечной звезды шерифа на груди. Заслужил, пожалуй. Послушный сын, верный солдат и уставший хранитель закона – хранитель, который со временем, к своему удивлению, перестал различать яркие цвета. Черное и белое приобрело бесконечное множество оттенков цвета пепла. А шериф то стряхивал, то сдувал этот пепел, оживляя огонек, пожирающий белую бумагу.
«Раньше как хорошо было – все понятно!» Мысль прорвалась откуда-то издалека и встревожила спокойный рассудок. Иногда такое происходило, и Койл ни с того ни с сего начинал нервничать и отгонять озарение как назойливую муху. Если усилий одного лишь разума было недостаточно, он вполне мог подключить речь и начать разговаривать сам с собой. Если не помогало и это, то Койл начинал расхаживать туда-сюда и трогать ребристую рукоять своего «смит-и-вессона». Плохая привычка: люди вокруг беспокоились.
– Чертов табак! – Папироса дотлела до пальцев и обожгла их. Койл отшвырнул ее. Бросил взгляд на газету и заметил дату: 1883, май, 6-е.
«Как стар я стал».
Шериф отвернулся и посмотрел в окно. Солнце вставало вот уже столько лет подряд. Всегда с востока приходил свет.
«Неизменно. Вот бы и мне так».
Муха сожаления села на лоб, и шериф начал припоминать, что лучи по-настоящему грели только в детстве. В юности они начали обжигать. На войне молодой сержант Маркус Койл видел, как за мгновение ломалась жизнь. Чуть медленнее, но так же неумолимо, один за одним, сыпались идеалы, рвались кровавые тряпки, присваивались звания. А руки воровали, а ноги бежали в другую сторону. Генералы врали, вдохновляли, посылали на смерть. Во имя долга, свободы, равенства и прочих материй, которые не имеют вкуса, запаха и цвета. Долг не съесть за обедом, свободу не выпить, равенство не выкурить. Но, как по уложенным отцом рельсам, Маркус ехал и ехал вместе с этим грузом вперед. Он старался не оглядываться по сторонам, но, замечая, что кто-то другой смог изменить путь и скинуть балласт, до хруста стискивал челюсти. Непонимание с возрастом сменилось злостью, сопровождаемой чуть заметным уколом в сердце: инъекцией зависти. А товарный поезд войны всё так же ехал на старой тяге и трясся, словно его грабили на ходу. Стоп-кран, который давно заклинило, не опускался, и оставалось лишь краем глаза смотреть вслед уносящимся с добычей налетчикам. В мыслях Маркус убегал вместе с ними – но на самом деле упрямо ехал по рельсам дальше, продолжая себя уговаривать, что все делает правильно, даже в те моменты, когда понимал, что всё совсем не так.
Койл повернулся к солнцу спиной, и щурясь от дыма, пальнул взглядом прямо в середину картонной доски с черно-белыми портретами на ней. Люди на портретах как-то странно улыбались – уголками губ вниз. Мазки туши смело и резко легли на коричневую, словно побывавшую в кофе бумагу, создав почти неотличимые друг от друга силуэты. Художник один, шляпы разные. Люди в этих шляпах, похожие друг на друга как братья, выстроились в шеренгу и ухмылялись. Каждый своим голосом произносил свое имя, озвучивал цену, а потом вскидывал брови к надписи: WANTED.
Шериф снял ноги со столешницы и, кряхтя, приподнялся из-за стола. Щурясь то ли от солнца, то ли от дыма, он начал свое привычное движение вдоль картинной галереи подонков разных мастей и разной степени ценности. Кто-то из разыскиваемых был обычным оступившимся подростком: сначала украл курицу и напился в салуне, потом подрался, нагрубил служителю закона, стал прятаться, угнал лошадь, ограбил человека – и теперь скрывается, отчаянно думая, как бы разорвать этот замкнутый круг, в который он когда-то попал просто потому, что был голоден. Таких немного. Но у них есть шанс вернуться в нормальную жизнь. Их сразу видно, как, впрочем, и отъявленных негодяев. Эти ждать не готовы. Вся их жизнь – насилие. Они убивают, потому что им так нравится, и силой отбирают у слабых то, что им нужно. Их не изменить, в них вшита преступность. Как патроны в барабане, грехи по очереди выводятся в ствол. Бесконечный боезапас – и ни капли сожаления. Жестокий садист убежден в силе, верит в нее, как старая прихожанка во Второе пришествие. А может, и не верит – просто живет честно.
«Вероятно, так оно и есть. Но слово «честно» всё-таки не очень подходит. – Шериф попытался подобрать более подходящее выражение и даже перестал ходить по кабинету. – Если бы не искусственные традиции, обычаи, культура и мораль, мы бы уподобились бандитам и убивали бы друг друга. Эти ублюдки просто сильнее… но не потому, что умнее, а потому, что оказались не готовы к обману, в который большинство из людей поверило. Голого человека обернули плотным одеялом морали, скрыв его наготу и жестокое дикое естество, продлив тем самым жизнь для многих его сородичей. Но нужна ли такая жизнь им самим? Да – для популяции. Нет – для особи.
Первых гнетет случайность, и они просто жертвы неудачных обстоятельств. Вторые просто бегут за своими инстинктами, не видя ничего вокруг. Но есть ещё и третьи. Их совсем мало. Тех, которые однажды устали. Они научились управлять своими желаниями ради отложенной, но масштабной цели. Когда у кого-то из третьих начинает получаться и он чувствует власть, то он может стать великим. Большие политики – все оттуда, из «третьих». В розыск такие не попадают: они и так на виду. Их все знают: боятся или уважают – неважно. Они берут то, что им отдают добровольно. Последовательно переходят от мизерного к огромному. Набегавшись в молодости под пулями, иногда даже посидев в тюрьме, они рвутся топтать лакированными штиблетами мягкие ковры во дворцах, поднимать хрустальные бокалы. Легализация преступного замысла. Болото из крови, впору ходить в рыбацких сапогах и стараться не черпнуть голенищем прошлого».
В очередной раз шериф все расставил по местам, полюбовался собственной блестящей логикой – и снова расстроился. Наблюдатель, надзиратель, судья, наделенный придуманной обществом властью, он противился тому, чтобы ингредиенты смешивались, и, кажется, даже признался себе, что поделать уже ничего нельзя. Еще больше его бесила мысль, что такой жижей жизнь была всегда.
–Сэр, доброе утро, сэр!
– Да! – немного рассеянно отозвался шериф, оборачиваясь на голос.
– Там это, кажется, что, э-э-э, кое-что произошло! – Голос принадлежал тщедушному человечку
– Хиггинс, сколько раз повторять? Коротко и по делу!
– Подстрелили Ленарда Прайса. Он жив, сейчас у врача. Похоже, снова похитители скота, – четко и без запинки отрапортовал сержант Хиггинс. Он даже приосанился и стал похож на подростка в полицейской форме.