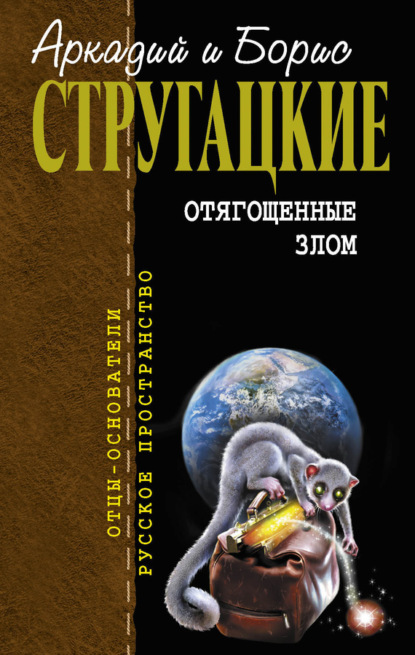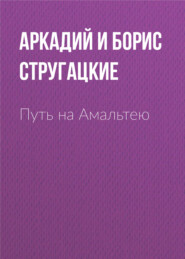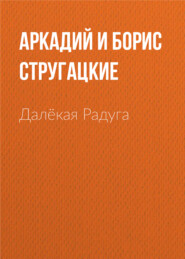По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отягощенные злом (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ГРИНЯ: Н-н-н… Ладно. Это еще туда-сюда… Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти… Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!
АГАСФЕР ЛУКИЧ: Момент! (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)
ГРИНЯ: подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.
Я: только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей: я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.
ГРИНЯ (прочитав, передает лист мне): «Ознакомься, Корнеич», – говорит он озабоченно.
Я: ознакамливаюсь, и волосы мои встают дыбом.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19.. года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта.
Дата. Подпись.
Я: в полном обалдении принимаюсь читать все сначала.
ГРИНЯ (скворчит у меня над ухом): Религиозное… это… как его там… религиозное – это одно, не жалко… А субстанция – совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?
АГАСФЕР ЛУКИЧ (ласково вещает где-то на краю моего сознания): Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич.
Я (как всегда, слетевши с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно-мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость): С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!
Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладели мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклонясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гринею) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее, раскаленное, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.
– А не сгорит оно там к ядрене-фене? – опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.
– Не должно, – озабоченно ответствовал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там внутри.
Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.
– Давайте, давайте, мужики, – приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу. – Так ты обещаешь, что под орехом? – спрашивал он Агасфера Лукича. – Или под платаном все ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые…
Агасфер же Лукич отвечал ему:
– Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае – под платаном…
Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по терренкуру в кромешной тьме, разноображенной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.
Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были тогда мне непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело?
Надо сказать, Агасфер Лукич никогда и не делал особенной тайны из своих трансакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен – просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам – и даже не к эвфемизмам, собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, как правило, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?
Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных, – имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.
Суслопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений – ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора номерного сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению: помощник товарища Суслопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, коему все равно в ближайшее время грозил срок; и еще одиннадцать персон по списку.
Самого себя товарищ Суслопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этаким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранцев. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.
Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гаврилычем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него были сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.
Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета – и проиграл.
Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях – совершенно преображенного, но уже невеселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель… Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла… Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убывает. Вполне возможно. И все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскаленной топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.
Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь, по крайней мере, быть кратким.
В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее – я предсказал, что их должно быть десять-пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно «звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!
Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал», и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл лэттэрз». Гордость фрайера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, господь с ним…
Когда Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли публиковать – кто в «Астрофизикл джорнэл», кто в «Ройял обзерватори бюллэтенз», – что эффект «звездных кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме, – вот тут я почувствовал себя на сковородке.
Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место… этакий логический скачочек… К черту, к черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться… Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.)
Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку – и будь что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.
Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно – что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил… как бишь его… вот уж и фамилии не помню… А ведь вполне может быть, что он в своей работенке – детской работенке, зеленой – вполне справедливо меня поддел. Это тогда, сгоряча, я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать…
Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обосрался». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все получится по-моему…
Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да – да, нет – нет. Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».
Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.
Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем – его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление – он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно, и нашли ли. Со «звездными кладбищами» оказалось посложнее, все-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств, – он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.
С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.
Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь.
Едва он заговорил, я даже вздрогнул: мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике с тем, чтобы в обозримом будущем (10
–10
секунд) мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем Юго-Западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временны?х и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял – зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.
Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым, – зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.
Действительно, ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звездные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если их нет). А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию.
Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться? А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.
Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты, – пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.
Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый день разменивать в столовой новехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в месткоме на «семерку-жигули»… Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся.