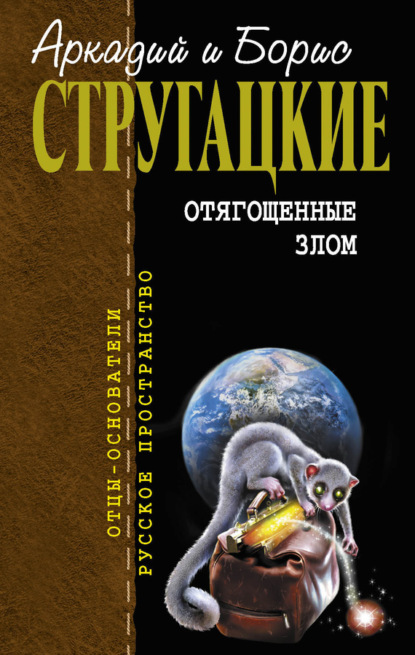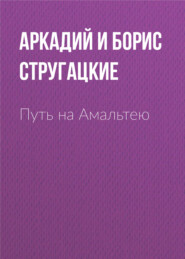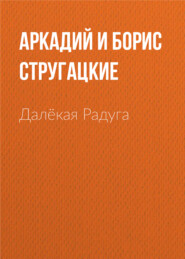По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отягощенные злом (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Как интере-е-есно», – фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г. А. Я ответил, что да, заметил, и в свою очередь спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г. А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.
Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немолодой варсовый костюмчик, – вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.
Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г. А, не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед – рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет», – и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.
Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: направо, налево, – а хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич…» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.
Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.
«Как интере-е-есно», – повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)
Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.
Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои…» А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами – чтобы духу вашего не было!..» И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче… Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб…»
Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая – кто посмел? И вторая – почему бока у Г. А. твердые, как дерево?
Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.
Выяснилось, что у Г. А. страшенный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился – все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких.
На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)
Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький.
А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:
– Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра!
Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.
Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурболки отскакивают.
Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:
– А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?
Что я ему мог сказать?
17 июля. Вечер
Около полудня Г. А. взял меня с собой в гормилицию.
Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь – терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.
Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть не похож на начальника гормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том, о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также – с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.
Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайла Тарасович, лично? Что правильнее: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?
Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора – это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.
Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны – массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли, – волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны – меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более – носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, – и все это одновременно.
Г. А.: Признает, что да, трудные настали времена для милиции.
М. Т. (мечтательно заведя глаза): Вот, помню, когда я еще был курсантом… (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты – и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам. – Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».)
Г. А.: А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?
М. Т.: Чье указание? Петра Викторовича, что ли?
Г. А.: Хотя бы… Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.
М. Т.: Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопочете?
Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно): Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?
М. Т. (крайне возмущен): То есть как это – несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями… Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)
Г. А. (пытается втолковать): Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.
Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия, – говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует![41 - «Это, душа моя, все философия, – говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!)…» – по словам Б. Стругацкого, более полная цитата такова: «Однако, все это, господа, философия. А не выпить ли нам водки?». Источник не обнаружен.]). – Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. “Действуй по обстановке”, – вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из “пятьсот веселого” Оренбург – Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше… Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».
Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете и чтобы взял я ему там бульон с пирожками – пусть остынет.
Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.
Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайла Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».
Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер.
Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г. А. какой-то человечек. Я пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.
Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры – приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей прямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером… Весь как есть, даже не переодевшись.
После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» – спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея», – произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.
В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.
Рукопись «03» (10–14)
…Не так все это было, совсем не так.
10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился он не один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).
Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было еще девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.
Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники. Срань господня.
Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немолодой варсовый костюмчик, – вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.
Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г. А, не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед – рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет», – и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.
Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: направо, налево, – а хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич…» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.
Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.
«Как интере-е-есно», – повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)
Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.
Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои…» А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами – чтобы духу вашего не было!..» И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче… Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб…»
Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая – кто посмел? И вторая – почему бока у Г. А. твердые, как дерево?
Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.
Выяснилось, что у Г. А. страшенный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился – все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких.
На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)
Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький.
А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:
– Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра!
Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.
Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурболки отскакивают.
Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:
– А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?
Что я ему мог сказать?
17 июля. Вечер
Около полудня Г. А. взял меня с собой в гормилицию.
Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь – терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.
Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть не похож на начальника гормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том, о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также – с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.
Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайла Тарасович, лично? Что правильнее: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?
Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора – это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.
Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны – массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли, – волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны – меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более – носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, – и все это одновременно.
Г. А.: Признает, что да, трудные настали времена для милиции.
М. Т. (мечтательно заведя глаза): Вот, помню, когда я еще был курсантом… (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты – и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам. – Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».)
Г. А.: А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?
М. Т.: Чье указание? Петра Викторовича, что ли?
Г. А.: Хотя бы… Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.
М. Т.: Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопочете?
Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно): Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?
М. Т. (крайне возмущен): То есть как это – несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями… Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)
Г. А. (пытается втолковать): Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.
Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия, – говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует![41 - «Это, душа моя, все философия, – говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!)…» – по словам Б. Стругацкого, более полная цитата такова: «Однако, все это, господа, философия. А не выпить ли нам водки?». Источник не обнаружен.]). – Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. “Действуй по обстановке”, – вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из “пятьсот веселого” Оренбург – Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше… Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».
Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете и чтобы взял я ему там бульон с пирожками – пусть остынет.
Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.
Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайла Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».
Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер.
Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г. А. какой-то человечек. Я пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.
Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры – приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей прямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером… Весь как есть, даже не переодевшись.
После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» – спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея», – произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.
В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.
Рукопись «03» (10–14)
…Не так все это было, совсем не так.
10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился он не один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).
Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было еще девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.
Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники. Срань господня.