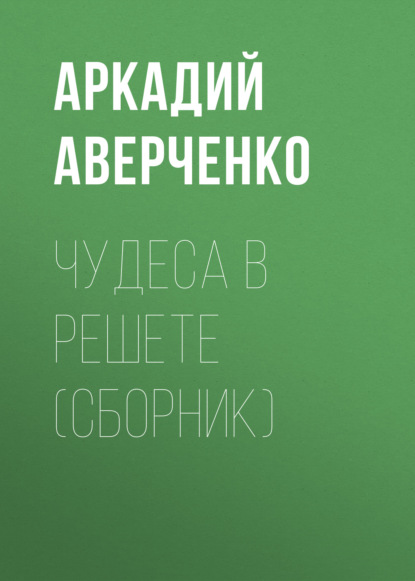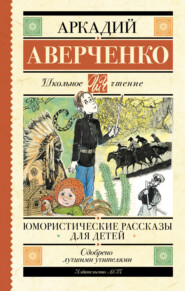По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чудеса в решете (сборник)
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет! Одуматься? Ха-ха! Что Мушуаров решил – это свято! Завтра меня не будет в живых.
Он молчит, судорожно дыша. После некоторой паузы говорит тихо, разделяя слоги:
– Прощайте. Не поминайте лихом…
Склонив голову, ждет ответа.
– Алло! Я говорю – про-щай-те… Не поминайте лих… Вера Петровна! Вы у телефона? Алло! Барышня! Почему вы разъединили? Что? Там трубку уже повесили? Не может быть!! Дайте туда звонок. Алло. Вера Петровна?..
– Да, это я, Мушуаров? Что вы еще хотели сказать?..
– Нас разъединили.
– Нет, это я сама повесила трубку. Вы что же, еще что-нибудь хотите сказать?
– Да. У меня одна к вам просьба…
– Пожалуйста. Если смогу…
– Одна к вам просьба: не приходите ко мне на панихиду и не провожайте на кладбище… Это такая пошлятина – эти все разговоры, пересуды… Обещаете?
– Обещаю.
– Ну… пр… прощайте. Благослови вас Господь.
– Мерси. Всех благ.
Слышен стук повешенной трубки. Мушуаров долго сидит, ошеломленный. Проводит рукой по лбу.
– Вот дрянь-то! Кто бы мог ожидать? Шел почти наверное и – на тебе! Ну, и черт с ней. Однако, это плохо, что так вышло. Завтра смеяться еще будет, другим расскажет… Гм!..
Долго ходит по своему кабинету Мушуаров, потирая лоб и бормоча невнятные слова…
Наконец, решительно подходить к столу, придвигает лист толстой почтовой бумаги. Пишет:
«Вера Петровна. Как странно: был я болен и вдруг сразу будто выздоровел, будто прозрел… Я вас любил… Боже ты мой, как я вас любил! Жизнь без вас казалась мне пучиной мрака… Вы мне казались идеальной женщиной, светлым лучом, ангелом доброты и ласки… И, не получив вашей любви, я решил умереть. Мое решение было бесповоротно, и о нем я сказал вам, думая, что так для нас обоих будет легче. Я сказал вам… И на что же я наткнулся – я, уже приговоривший себя к смерти?!! На издевательство, смех, холодное, ледяное равнодушие влюбленной в себя эгоистки… И подумал я: из-за такой женщины – умирать? Из-за такого черствого сухаря, не способного на высокий подъем души – лишать себя жизни? Нет! Она не достойна этого! И я решил жить, убив свою любовь и взрастив на ее месте холодное полупрезрительное равнодушие… Нет! Не ради вас Мушуаров расстанется со своей безумной жизнью. Вот о чем я нынче продумал всю ночь, и о чем сейчас, измученный этой бессонной ночью, пишу. Прощайте. Когда-то ваш – Спиридон Мушуаров».
В передней раздался звонок.
– Пришла? – подумал Мушуаров, заклеивая письмо. – То-то же. Все-таки, как-никак, a процентов шестьдесят на этом деле очищается…
Исповедь, которая облегчает
…После заутрени решили идти разговляться к Крутонову.
Пошли к нему трое: два – веселые, оживленные, Вострозубов и Полянский, – шагали впереди, a сзади брел третий – размягченный торжественной заутреней, задумчивый, какой-то внутренне просветленный.
Фамилию этот третий носил такую: Мохнатых.
Когда пришли к Крутонову, поднялась сразу веселая суета, звон стаканов, стук ножей и вилок…
И опять трое были оживлены, включая и хозяина, a Мохнатых по-прежнему поражал своим задумчивым, растроганно-печальным видом.
– Что с тобой такое делается, Мохнатых? – спросил озабоченный Крутонов, разливая в стаканы остатки четвертой бутылки.
– Эх, господа, – со стоном воскликнул Мохнатых, опуская пылающую голову на руки. – Может быть, это единственный день, когда хочется быть чистым, невинным, как агнец, – и что же! Никогда так, как в этот день, ты не чувствуешь себя негодяем и преступником!
– Мохнатых, что ты! Неужели ты совершил преступление? – удивились приятели.
– Да, господа! Да, друзья мои, – простонал Мохнатых, являя на своем лице все признаки плачущего человека. – Как тяжело сознавать себя отбросом общества, преступником…
Хозяин разлил по стаканам остатки пятой бутылки и дружески посоветовал:
– А ты покайся. Гляди, и легче будет.
По тону слов хозяина Крутонова можно было безошибочно предположить, что в этом совете не заключалось ни капли альтруистического желания облегчить душевную тяжесть приятеля Мохнатых. А просто хозяин был снедаем самим земным, низшего порядка любопытством: что это за преступления, которые совершил Мохнатых?
Разлил остатки шестой бутылки и еще раз посоветовал:
– В самом деле, покайся, Мохнатых. Может, мы тебя и облегчим как-нибудь.
– Конечно, облегчим, – пообещали Вострозубов и Полянский.
– Дорогие вы мои, – вдруг вскричал в необыкновенном экстазе Мохнатых, поднимаясь с места. – Родные вы мои. Недостоин аз, многогрешный, сидеть среди вас, чистых, светлых, и вкушать из одной и той же бутылки пресветлое сие питие. Грешник я есмь, дондеже не…
– Ты лучше по-русски говори, – посоветовал Полянский.
– И по-русски скажу, – закричал в самозабвении Мохнатых: – И по-французски, и по-итальянски скажу – на всех языках скажу! Преступник я, господа, и мытарь! Знаете ли вы, что я сделал? Я нашему директору Топазову японские марки дарил. Чилийские, аргентинские, капские марки я ему дарил, родные вы мои…
Крутонов и Вострозубов удивленно переглянулись…
– Зачем же ты это делал, чудак?
– Чтоб подлизаться, господа, чтобы подлизаться. Пронюхал я, что собирает он марки, – хотя и скрывал это тщательно старик! Пронюхал. А так как у него очищается место второго секретаря, то я и тово… Стал ему потаскивать редкие марочки. Подлизаюсь, думаю, a он меня и назначит секретарем!
– Грех это, Мохнатых, – задумчиво опустив голову, сказал хозяин Крутонов. – Мы все работаем, служим честно, a ты – накося! С марочками подъехал. Что ж у него марочек-то… полная уже коллекция?
– В том-то и дело, что не полная! Нужно еще достать болгарскую выпуска семидесятого года и какую-то египетскую с обелиском. Тогда, говорит, с секретарством что-нибудь и выгорит.
– И не стыдно тебе? – тихо прошептал Крутонов. – Гнусно все это и противно. Марки-то эти можно где-нибудь достать?
– Говорят, есть такой собиратель, Илья Харитоныч Тпрундин, у которого все что угодно есть. Разыщу его и достану.
– Омерзительно, – пожевал губами Крутонов. – Семидесятого года болгарская-то?
– Семидесятого. Горько мне, братцы.
– Ну, что ж, – пожал плечами Вострозубов. – Ты нам признался, и это тебя облегчило. Если больше никаких грехов нет…
Он молчит, судорожно дыша. После некоторой паузы говорит тихо, разделяя слоги:
– Прощайте. Не поминайте лихом…
Склонив голову, ждет ответа.
– Алло! Я говорю – про-щай-те… Не поминайте лих… Вера Петровна! Вы у телефона? Алло! Барышня! Почему вы разъединили? Что? Там трубку уже повесили? Не может быть!! Дайте туда звонок. Алло. Вера Петровна?..
– Да, это я, Мушуаров? Что вы еще хотели сказать?..
– Нас разъединили.
– Нет, это я сама повесила трубку. Вы что же, еще что-нибудь хотите сказать?
– Да. У меня одна к вам просьба…
– Пожалуйста. Если смогу…
– Одна к вам просьба: не приходите ко мне на панихиду и не провожайте на кладбище… Это такая пошлятина – эти все разговоры, пересуды… Обещаете?
– Обещаю.
– Ну… пр… прощайте. Благослови вас Господь.
– Мерси. Всех благ.
Слышен стук повешенной трубки. Мушуаров долго сидит, ошеломленный. Проводит рукой по лбу.
– Вот дрянь-то! Кто бы мог ожидать? Шел почти наверное и – на тебе! Ну, и черт с ней. Однако, это плохо, что так вышло. Завтра смеяться еще будет, другим расскажет… Гм!..
Долго ходит по своему кабинету Мушуаров, потирая лоб и бормоча невнятные слова…
Наконец, решительно подходить к столу, придвигает лист толстой почтовой бумаги. Пишет:
«Вера Петровна. Как странно: был я болен и вдруг сразу будто выздоровел, будто прозрел… Я вас любил… Боже ты мой, как я вас любил! Жизнь без вас казалась мне пучиной мрака… Вы мне казались идеальной женщиной, светлым лучом, ангелом доброты и ласки… И, не получив вашей любви, я решил умереть. Мое решение было бесповоротно, и о нем я сказал вам, думая, что так для нас обоих будет легче. Я сказал вам… И на что же я наткнулся – я, уже приговоривший себя к смерти?!! На издевательство, смех, холодное, ледяное равнодушие влюбленной в себя эгоистки… И подумал я: из-за такой женщины – умирать? Из-за такого черствого сухаря, не способного на высокий подъем души – лишать себя жизни? Нет! Она не достойна этого! И я решил жить, убив свою любовь и взрастив на ее месте холодное полупрезрительное равнодушие… Нет! Не ради вас Мушуаров расстанется со своей безумной жизнью. Вот о чем я нынче продумал всю ночь, и о чем сейчас, измученный этой бессонной ночью, пишу. Прощайте. Когда-то ваш – Спиридон Мушуаров».
В передней раздался звонок.
– Пришла? – подумал Мушуаров, заклеивая письмо. – То-то же. Все-таки, как-никак, a процентов шестьдесят на этом деле очищается…
Исповедь, которая облегчает
…После заутрени решили идти разговляться к Крутонову.
Пошли к нему трое: два – веселые, оживленные, Вострозубов и Полянский, – шагали впереди, a сзади брел третий – размягченный торжественной заутреней, задумчивый, какой-то внутренне просветленный.
Фамилию этот третий носил такую: Мохнатых.
Когда пришли к Крутонову, поднялась сразу веселая суета, звон стаканов, стук ножей и вилок…
И опять трое были оживлены, включая и хозяина, a Мохнатых по-прежнему поражал своим задумчивым, растроганно-печальным видом.
– Что с тобой такое делается, Мохнатых? – спросил озабоченный Крутонов, разливая в стаканы остатки четвертой бутылки.
– Эх, господа, – со стоном воскликнул Мохнатых, опуская пылающую голову на руки. – Может быть, это единственный день, когда хочется быть чистым, невинным, как агнец, – и что же! Никогда так, как в этот день, ты не чувствуешь себя негодяем и преступником!
– Мохнатых, что ты! Неужели ты совершил преступление? – удивились приятели.
– Да, господа! Да, друзья мои, – простонал Мохнатых, являя на своем лице все признаки плачущего человека. – Как тяжело сознавать себя отбросом общества, преступником…
Хозяин разлил по стаканам остатки пятой бутылки и дружески посоветовал:
– А ты покайся. Гляди, и легче будет.
По тону слов хозяина Крутонова можно было безошибочно предположить, что в этом совете не заключалось ни капли альтруистического желания облегчить душевную тяжесть приятеля Мохнатых. А просто хозяин был снедаем самим земным, низшего порядка любопытством: что это за преступления, которые совершил Мохнатых?
Разлил остатки шестой бутылки и еще раз посоветовал:
– В самом деле, покайся, Мохнатых. Может, мы тебя и облегчим как-нибудь.
– Конечно, облегчим, – пообещали Вострозубов и Полянский.
– Дорогие вы мои, – вдруг вскричал в необыкновенном экстазе Мохнатых, поднимаясь с места. – Родные вы мои. Недостоин аз, многогрешный, сидеть среди вас, чистых, светлых, и вкушать из одной и той же бутылки пресветлое сие питие. Грешник я есмь, дондеже не…
– Ты лучше по-русски говори, – посоветовал Полянский.
– И по-русски скажу, – закричал в самозабвении Мохнатых: – И по-французски, и по-итальянски скажу – на всех языках скажу! Преступник я, господа, и мытарь! Знаете ли вы, что я сделал? Я нашему директору Топазову японские марки дарил. Чилийские, аргентинские, капские марки я ему дарил, родные вы мои…
Крутонов и Вострозубов удивленно переглянулись…
– Зачем же ты это делал, чудак?
– Чтоб подлизаться, господа, чтобы подлизаться. Пронюхал я, что собирает он марки, – хотя и скрывал это тщательно старик! Пронюхал. А так как у него очищается место второго секретаря, то я и тово… Стал ему потаскивать редкие марочки. Подлизаюсь, думаю, a он меня и назначит секретарем!
– Грех это, Мохнатых, – задумчиво опустив голову, сказал хозяин Крутонов. – Мы все работаем, служим честно, a ты – накося! С марочками подъехал. Что ж у него марочек-то… полная уже коллекция?
– В том-то и дело, что не полная! Нужно еще достать болгарскую выпуска семидесятого года и какую-то египетскую с обелиском. Тогда, говорит, с секретарством что-нибудь и выгорит.
– И не стыдно тебе? – тихо прошептал Крутонов. – Гнусно все это и противно. Марки-то эти можно где-нибудь достать?
– Говорят, есть такой собиратель, Илья Харитоныч Тпрундин, у которого все что угодно есть. Разыщу его и достану.
– Омерзительно, – пожевал губами Крутонов. – Семидесятого года болгарская-то?
– Семидесятого. Горько мне, братцы.
– Ну, что ж, – пожал плечами Вострозубов. – Ты нам признался, и это тебя облегчило. Если больше никаких грехов нет…