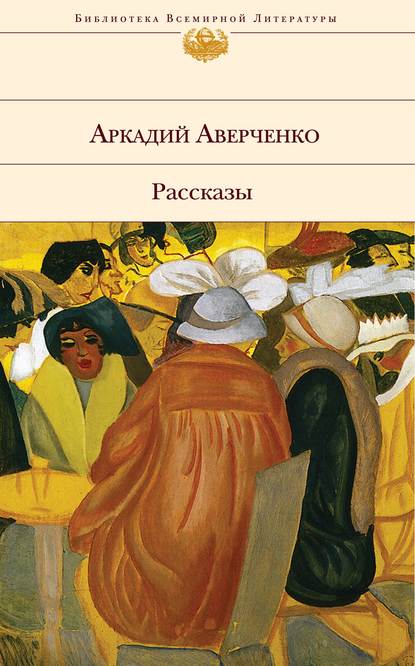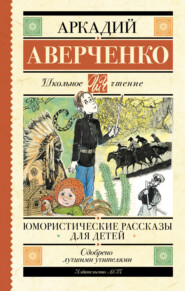По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Одураченный хиромант
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом месте моя ладонь бессовестно преувеличивала и раздула факт; и чем дальше, тем она больше кривлялась, выдумывала небылицы и возводила на меня разные поклепы.
Кто, например, просил ее утверждать, что я сидел два года в тюрьме? Когда это было?
И мне долго пришлось разглагольствовать перед доверчивым хиромантом об освободительном движении, о жертвах революции, чтобы хотя чем-нибудь скрасить свою неприглядную моральную физиономию.
А рука осмелела и разошлась вовсю.
– Вы жили три года в Америке и потеряли там все свое состояние!
«Да, – усмехнулся я про себя. – Ты бы еще что-нибудь выдумала, голубушка… Ты бы еще отметила на себе, что я покушался на самоубийство».
Рука явно издевалась надо мной.
– Двадцати одного года вы покушались на самоубийство, но неудачно.
«Я думаю, что неудачно, – подумал я, – иначе бы я не сидел здесь. Да и не покушался я вовсе. И в мыслях не было!»
– Какая это линия свидетельствует о самоубийстве? – угрюмо спросил я.
– Вот видите – эта. Отсюда – досюда.
Мне было смертельно стыдно за свою собственную руку. Если бы мне подвернулся тот самый ножик, который был мною в свое время утерян в сене и потерю которого моя ладонь раздула до размеров чего-то тяжелого, смертельно холодящего сердце, – я, не колеблясь, начертил бы этим ножиком на ладони новые линии, которые имели бы большую совесть и скромность и не подводили бы своего хозяина.
А рука в это время выдумывала все новое и новое, а хиромант добросовестно передавал все это мне, а я злился и нервничал…
Смотря с ненавистью на свою ладонь, я думал:
«Где я тонул? Когда я тонул? Зачем тебе нужно было сообщать об этом? Лжешь ты, что у меня жестокий, придирчивый характер!»
Потом рука ударилась в другую крайность: она стала бессовестно передо мной заискивать и грубо, примитивно льстить мне.
– Ум ваш склонен к великим изобретениям… Все окружающие любят вас и считают человеком с зачатками гения! На тридцатом году вы сотворите произведение искусства, которое прогремит! Женщины бегают за вами толпой!
«Нет, – горько усмехнулся я про себя. – Теперь уж, голубушка, не поправишь дела… Навыдумывала, наплела всяких гадостей, да и на попятный».
Гадко! Позорно! Стыдно!
У нее не было никакой логики. Одна линия указывала, что я человек слабый, склонный к заболеваниям и простудам. А рядом тянулась такая же другая линия, которая с пеной у рта опровергала первую и вопила, что никогда она не видела человека здоровее меня.
– Ты корыстолюбив, скуп и имеешь большие деньги, – сообщила ехидно ладонь и в подтверждение этого выпячивала отвратительную изогнутую черту.
– Нет, – говорила другая, прямая, как стрела, черта, сжалившись надо мной. – Он щедр, бросает деньги, не считая их, и умрет в крайней бедности.
Я сидел, не смея взглянуть на хироманта. Я был красен как рак.
«Что он обо мне подумает?»
Когда я уходил, хиромант взял плату, еще раз взглянул на мою руку и дружелюбно посоветовал, отметив карандашом какое-то место:
– Остерегайтесь в своей жизни огня, пожаров и лошадей.
Я их и так остерегался, но после этого предупреждения решил держать ухо востро и при первой же возможности удирать от огня во все лопатки. Лошади тоже не внушали мне доверия. Я решил в будущем, прибегая к услугам этих животных, помещаться так, чтобы между мной и лошадью всегда сидел извозчик. Пусть уж лучше лошадь его растерзает, чем меня.
Уходя, я чувствовал перед хиромантом такую неловкость за все выходки моей ладони, что, желая загладить все это, сказал:
– Со своей стороны советую и вам остерегаться некоторых вещей… Я хотя и не хиромант, но кое-что в этих делах маракую… Остерегайтесь взбесившихся слонов, кораблекрушений, наводнений и брошенных в вас бомб. Тогда проживете настолько долго, насколько вас хватит! Прощайте.
Теперь я с совершенно новым чувством смотрю на свою ладонь. Я ее и ненавижу, и презираю, и… боюсь.
Я ведь бываю везде, посещаю все места, которые считаю необходимыми, и она будет тоже неотвязно таскаться за мной, шпионить, выслеживать, записывать на своей лживой поверхности все, что со мной случится, и при этом приврет, раздует, исказит так, что мне стыдно будет потом человеку в глаза глядеть… Ужасно неприятно!