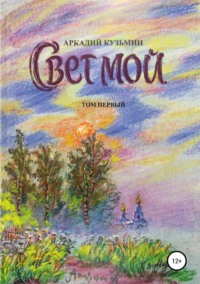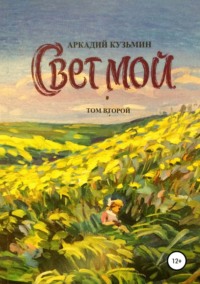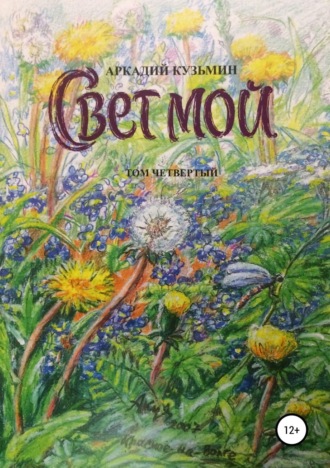
Свет мой. Том 4
– Для начала, – добавил Антон, – вы пойдите к ним. И посмотрите, что и как у них.
– К ним, сынок, я не могу пойти; я вызову Саню куда-нибудь – запиской либо как-нибудь еще. Его Мила безалаберна, да страсть хитра, пронырлива, если скоро забрала его в ежовы рукавицы, и я, свекровь, не могла никак подладиться под нее, откуда бы ни заходила. Словом, она – фурия.
– А я вам говорю, родная Нина Федоровна, что и бесполезно учить ее порядку и порядочности, если это у нее в крови.
– Только не волнуйтесь за сына напрасно, – подхватил Антон после слов жены. – Ведь мужчина он, действительно, и пусть сам доходит до всего, проявляет свою волю, доблесть.
Нина Федоровна поднесла к глазам платок:
– Понимаю все… Я, как все бабы, нереальная, конечно же, но… ведь это я хочу сделать ради счастья Сани. И иду что на голгофу. Да приедешь к ним – может, и еще пробой поцелуешь… Прокатишься зря… Я ведь не писала им об этом путешествии совсем, чтобы их не спугнуть. В поездах наездившись, истинно собственный язык жуешь. Вам завидую, что вы молодые, свободные. Ну, простите… И прощайте.
– До свидания!
Люба быстро нагнулась над ней, тихо плачущей и, целуя ее на прощанье, ткнулась в ее дергавшуюся щеку. И торопливо затем, точно за нею гнались, выскользнула из купе.
На очень людном и многоголосом перроне симферопольского вокзала они оглянулись на только что оставленный вагон севастопольского поезда. Но на расстоянии там, в вагоне, – за его запыленными и отсвечивающими стеклами – только и видны были одни тени сновавших пассажиров.
Наперерез Кашиным выскочил неухоженно-помятый лобастый малый в стоптанных башмаках, спросил с ходу, в упор:
– Вы не могли бы дать мне какую-нибудь мелочь. Я есть хочу. У меня мать умерла. Я не прошу десятку, а только мелочь.
– О, об этом мы давно уже наслышаны… – Антон протянул ему монетку, заглянул в его нагловатые глаза. – По-моему, на прожитье и подработать можно самому. Не развалишься, поди.
– Мне ведь только семнадцать лет, поймите…– вызывающе и с какой-то великой претензией и даже ненавистью к миру и ко всем сказал юный вымогатель. И тут же, сорвавшись с места, закричал вслед седовласому старцу: – Эй, молодой человек, постойте! – И остановил того. И тот полез в карман.
А рядом проходящая гражданка с баулами раздраженно проговорила:
– Я это знаю хорошо: попрошайкам помогают. А у меня все-все стараются отнять.
– Я устала от нее, великомученицы сыновей, – призналась Люба. – Для нее – не тот женский товар оказался у ее воспитанных мальчиков. Помню: и мамино помрачение (и всех нас), когда ее любимый сын Толя (я не была у нее любимицей) привел в дом свою местечковую жену Лену. Все шарахались от нее прочь.
– Да, беда, прокол в личной жизни ребят Нины Федоровны: – согласился Антон. – Их-то специально готовили к военной службе Родине, к ратным подвигам, как и их отца, в горячих точках – стычках с недругами, а не к выбору подходящих спутниц.
– Видишь ли, у них – династия военная. Потому, верно, и отец их, военный профессионал, не очень-то приспособлен к мирной гражданской жизни.
– Время сейчас такое. Как и для нас оно было и есть. Вон в сорок четвертом и муж Нины Федоровны, офицер, выходит, тоже, что и я, исхаживал дороги Белоруссии. Мы могли бы незаказанно встретится. Восхищает меня материнский подвиг Нины Федоровны. Она, как и наша мать, Анна Макаровна, да и твоя мама, Янина Максимовна, растила ребят прежде всего для того, чтобы они стали достойными людьми и достойно служили отечеству. Величайший труд отдают матери во благо миру, справедливости.
– Не всем это дано, не говори; не всем – по силам.
– Потому и общество дырявое бывает. Есть и отъявленная шпана.
– Да мы еще молодожены. И все – впереди.
– Какие же вы счастливые! – позавидовала им Нина Федоровна.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
По существовавшей классификации Кашин был художником печати. И он также вел все книжное и иное производство в издательстве, придерживаясь выделенных Комитетом по печати лимитных квот в десятке полиграфических предприятий страны, которые более-менее сносно по качеству выпускали книги, альбомы. И это у него получалось. При немалых усилиях.
Для служебной переписки Антон отводил специальные дни («дни писем», как он говорил); другие же бумажки, вроде всяких докладных на него самого (обидел кровно Веру – экономистку, подписав без нее кипу накопившихся соглашений с одной типографией, которые она уже полгода не подписывает; поздно вышел тираж такой-то открытки; поставил на книжки стандартную 100-граммовую бумагу, а хотелось бы поплотней и т.п.), он видел, не носили делового характера и он, не читая их, но зная их суть в зависимости от людей, писавших их, время от времени сбрасывал в корзину под стол, чтобы они не плодились. Потому как давать объяснение на каждую из них директору – потратишь все рабочее время. Да и никак нельзя писать объяснительные по поводу стиля своей работы. Это никому не объяснишь.
Стиль его работы заключался в том, что с утра, как он приходил, он прежде всего старался по-человечески увидеть, как выглядят, как чувствуют себя сотрудницы, не заболел ли кто из них и не случилось ли что у кого; не доверяя своему впечатлению, спрашивал всех, и если это нужно, отпускал в поликлинику, домой и т.п. Он знал, что никто из них никогда не отлынивал от работы и всегда свое дело делали отлично. И только после этого он опрашивал по очереди всех, что они успели сделать накануне и что думают сегодня сделать, какие у них планы. После этого он деликатно, но настойчиво предлагал: «А не лучше ли сделать так?» Он любил полную самостоятельность своих сотрудников, и они уже привыкли к этому. Сначала сделают, решат без него, что должны делать в типографии, а потом уж своими сомнениями делятся с ним. И это было хорошо. За них можно было не бояться никогда. Так и он сам поступал – никогда начальству не докладывался. Выяснялось это лишь тогда, когда дело было сделано. Не докладывался еще потому, что начальство любило разглагольствовать по любому пустяку – и дело тогда только страдало. Ко всему этому привыкли все в издательстве и в типографии. Директор не хотел ни с кем ругаться. Он поддерживал со всеми добрые отношения, вел себя крайне стеснительно, а ему, Антону, ругаться приходилось, и его боялись, потому как он говорил одинаково для всех и всем, если люди того заслуживали. И он нес на себе нагрузку разрешения большинства производственных вопросов.
И так он сидел, мучительно думая, как следом за Валентиной Павловной зашла мастер переплетного участка, полная рослая Евгения Ивановна, и спросила, улыбнувшись:
– Ну, что, Антон Васильевич, сидите, как Наполеон?
– Да, как будто решается: пустить или не пустить в дело старую гвардию? – сказал кто-то за него.
– Насколько мне помнится, он об этом не думал, – сказал быстро Кашин.
– Да, не пустил, – согласился, краснея, язвительный Ветров: это был он. И ушел весь во внимание, слушая, что ему говорит Веселкина:
– Сегодня в автобусе все такие вежливые, и день яркий, солнечный. Пальто помогли надеть, платок поправили.
– Это кто же Вам помог? Дина Николаевна?
– Ну, все.
– Ах все!?..
– А я к Вам, – сказала, подступая к нему, Евгения Ивановна. – Помогите нам, Антон Васильевич.
– Помогу Вам с удовольствием, – сказал Антон в тон ей готовностью, уверенный в том, что в его силах всем помочь во всем, кто бы к нему не обращался с просьбами, и жестом пригласил ее присесть. – Переплетный цех сейчас нас не подводит, кроме папок к альбому Шишкина… Ну, Евгения Ивановна, я слушаю…
– Положение серьезное. Примите меры. Опять к нам не завезли бумагу и картон, сколько ни просили. Я на завтра отпускаю домой всю бригаду. А ведь она у меня работает сдельно. Вы все сами понимаете прекрасно…
Кашин, уж ни слова более не говоря и хмурясь больше, тотчас же схватился за беленький телефон (черненький был городской):
– Антонина Яковлевна, Кашин.
– Да, – отвечает та очень сухо, сдержанно, с поджатыми губами: сильно злится на него, он не дает ей спокойно жить.
– Что, не получается у Вас завоз в переплетный? Я просил…
– Я помню. Но на складе неожиданная ревизия. Я не могу.
– Но вчера ведь обещали, зная и про это…
– Господи, я не могу… Антон Васильевич!
– Антонина Яковлевна, это ж периодика, Вы знаете.
– Да, знаю, и ничем помочь Вам не могу.
– Я и Юрченко напоминал об этом самом.
– Ну, и спрашивайте у него: он сам запретил.
– А что у Вас с размоткой? Есть что-нибудь в размотке?
– Ничего. Надо ж раньше говорить.
– Боже мой! Да начиная с лета я твержу… Антонина Яковлевна, а с выборкой бумажных фондов у нас как? Вы звонили на фабрики?
– Нет еще.
– Почему?
– Потому что не успела. Я же ведь не сплю, Антон Васильевич, как Вам кажется. Мне нужно доделать отчет комитету, проверить сведения статуправлению о наличии складских остатков; сижу теперь, с головой занятая этим делом. У меня же две руки, мне не разорваться. И чем больше мы с Вами сейчас разговариваем, тем больше это отнимает у меня время, – все сильнее и сильнее раскатывался в трубке резкий голос. – Я не могу. Смогу узнать дня через три.
– Но у нас же печатные машины стоят, поймите это.
– Я не специалист, что мне тут понимать!
– Повторяю: нам нужна сейчас только офсетная бумага, ни мелованная и ни литографическая пока не нужны – они на складе есть, Вы это можете проверить. А поставщики офсетной у нас только две бумажные фабрики. Между той работой, которой занимаетесь, попутно закажите только два телефонных разговора с фабриками – все! Ведь уже март. Мы не будем торопить с отгрузкой, – бумага поступит к нам в лучшем случае в начале того квартала. Значит, план квартальный летит к черту. А ведь надо книжку сначала отпечатать, несколько листов в несколько красок, каждая краска печатается последовательно, когда просохнет предыдущая; потом надо отпечатанные листы сфальцевать, потом сшить, потом книжку сшитую подрезать с трех сторон; потом в пачки упаковать, потом этикетки на пачки наклеить – вот только тогда можно вывозить готовую книжную продукцию. Представляете, сколько нужно потратить времени на все эти операции. А там кто-то еще заболел. Сейчас эпидемия гриппа… Все, план квартала нарушен; – заявил Антон уверенно, с досадой, что сидят такие бестолковые неделовые работники.
– Антон Васильевич, я не могу. Я занята, – отвечала равнодушно начальница снабжения.
И Евгения Ивановна, слыша ее ответы, качала головой с удивлением.
– Ну, вы поручите это сделать Тамаре Николаевне.
– Все! Ее больше нет!
– Как, уже ушла? – он слышал, что она собиралась на пенсию.
– Да, – трагически отвечала, хотя до этого она с ней скандалила не на жизнь, а на смерть, Антонина Яковлевна; этим тоном она как бы хотела сказать, что у нее в отделе стало меньше работников, и она поэтому теперь не управляется с делами.
– Ну, попросите Юрченко, своего начальника. Может и он поговорить. Не барин.
– Антон Васильевич, я сказала: сделаю, что смогу. И все.
А ведь еще в конце того года в докладной записке директору он писал как раз об этом, говорил ежедневно, и все бесполезно. Его часто обвиняли в том, что он не фиксировал всех фактов, – он не любил, привык к самостоятельной работе с людьми и подсказывал другим, что нужно бы сделать, видя как бы на много времени вперед, предвидя всякие осложнения, – и все бесполезно.
Хотя ему изрядно уже надоедало быть рассудительным со всеми, ровно педагогу.
II
Только что закончился этот неприятный разговор. Зазвонил над дверью звоночек, потом стукнули за стенкой, у которой он сидел. В этом новом помещении городской телефон был параллельный с бухгалтерией, и они попеременно перестукивались в стенку, когда кому брать телефонную трубку, или откуда звонили в звонок; тогда отсюда стучали в стенку – сигнал о том, что можно уже переключить: трубку взяли.
– Да, здравствуйте, Татьяна Викторовна, – узнал он голос главного технолога офсетной фабрики: он всех узнавал по голосу. И взглядом отпустил Евгению Ивановну, сказав ей в сторону: – Сейчас я разберусь.
– Я вот что хочу спросить у Вас, Антон Васильевич. На первый квартал спущен лимит для вашего издательства на восемь миллионов краскоаттисков. Вы сможете освоить их? Бумага у вас есть?
– Разумеется, – сказал Кашин, прикидываясь непонимающим (бумаги не было ни грамма). – На этот год отпущена хорошая офсетная бумага. Ждем. Советская и Каменногорская.
– А что, еще не получена?
– Нет.
– Вот видите! Значит не освоите. Так и будем писать Комитету. Может, хотя бы приехали к нам, чтобы план обсудить.
– А что толку ехать к вам. Ведь иного разговора от вас все равно не услышишь. Вы же сами себя подрезаете. Книжка «По Франции» у вас в производстве уже четыре года, все не можете дать приличные пробы. Братскую ГЭС быстрее построят… Что вы печатать будете – вот придет к нам сейчас много бумаги? Книжку «Про оленей»? Осталось допечатать сто тысяч, и все. Почему же задержали пробооригинальные работы «По Камчатке»? Бумага подойдет довольно скоро – можно было бы печатать и ее.
– Мы не успеваем делать пробы. Книжку «По камчатке» мы отсняли, но она лежит пока без движения. Не дашь же ее ученикам, которых мы набрали…
– Странный у нас с Вами разговор получается. Все время только и слышишь «не можем…», «не будем…», «не в наших силах». За прошлый год – посчитайте вы нам только по двум книжкам сделали новые две пробы, ну, еще факсимильная репродукция, только и всего.
– А это разве мало? Это, если посчитать, как раз и составит три процента он нашей мощности. Ну, я говорю же: мы не успеваем готовить новые пробы. Парк печатных машин увеличили, а граверов не хватает…
– Так что же тогда в Комитете думают?…
– Ну, это не нашего ума дело…
– Ну, если так рассуждать, все можно пустить на самотек.
– Повторите какие-нибудь старые книжки, на которые у нас есть пленки.
– Вот-вот. А новые будут лежать. Производственный портфель увеличиваться. И с Кашина за это прогрессировку срезать… И что же, любопытно, вы предлагаете переиздать?
Она стала называть.
– О, это такое старье! Столько раз переиздавали. Нет, не подойдет, я сразу могу сказать. Вот «Про оленей» – еще куда ни шло. Книжка интересная. Еще триста тысяч можно повторить. Так… Уйдет сорок пять тонн бумаги. Это… По двадцать две копейки… Даст шестьдесят шесть тысяч… Маловато. Но я скажу своему начальству. Повторим. Но и вы должны сделать все возможное, чтобы выдать нам немедленно пробы. Как, договорились?
– Как только завезете бумагу, так сделаем их.
– Понятно. Теперь у меня предложение. Может, фабрика согласится взять наши бумажные фонды и будет заказывать сама бумагу в конторе, чтобы нам не переваливать без конца: сначала – с железной дороги – к себе, скидывать роли с машин и закатывать их в склад, а помещения у нас складские не приспособлены для этого, грузчики мучаются, они ведь тоже люди, а потом грузить опять на машины – и к вам, т.е. делать из бумаги лапшу.
– Ну, это, наверное, нужно с Москвой говорить.
– Но Вы-то не против этого предложения?
– Нет.
– Ну, тогда прекрасно. Мы поговорим с Москвой.
После этого, снова написав директору докладную, хотя, как он знал, были бесполезны здесь как слова, так и докладные о том, что нужно завести туда-то и туда-то бумагу и пр., он без стука вошел в кабинет Овчаренко (у него сидели, как обычно, зам.директора Юрченко и Шмелев, парторг) и подал ему докладную со словами:
– Как поется в песенке, что-то непонятное происходит в мире.
Тот водрузил на нос очки и, отпятив нижнюю губу, стал бегать глазами по его записке:
– Нет, так не годится.
– Что?
– Про футеровку нужно отдельно написать.
– Я же ведь не буду расписывать все до мелочей; я пишу начальнику снабжения, пишу Юрченко, пишу тебе – сколько можно? У меня тогда времени не хватит – я и буду только бумажками заниматься, а не делом.
– Нет, надо написать самостоятельную докладную. Напиши, пожалуйста, об этом. Ведь тебе не трудно.
– А зачем это тебе? Сними трубку, позвони, или вон Юрченко сидит день-деньской перед тобой, любуетесь друг на друга – и дай распоряжение о завозе бумаге и картона по акту, коли там идет ревизия. Ее еще долго будут делать.
– Нет, я должен резолюцию здесь наложить.
– Господи! Издай тогда приказ.
– А на основании чего?
– Ну я дам тебе такое разрешение.
– Нет, я должен написать здесь резолюцию для председателя этой инвентаризационной комиссии, – не сдавался директор.
– Но председатель-то вот, он перед тобой.
– Все равно.
– Но я уже писал об этом вам обоим.
– Подумаешь, напиши еще. Ну, где-то затерялось. Столько тут бумаг!
Он написал еще отдельную докладную – и об этом, принес снова Овчаренко. Сидячая картина у него не изменилась. Но директор вдруг сказал:
– Зачем же ты неправду пишешь: картон завезен, оказывается, а бумага – нет.
– Кто тебе сказал?
– Юрченко.
– Вот так прямо, не сходя со стула?
– Нет, как же он звонил Севастьяновой (Антонине Яковлевне).
Кашин привалился спиной к стенке, чтобы не упасть: ему сделалось очень весело.
– Он пусть прежде, чем ответить так, позвонит в типографию: все время оттуда идут требовательные телефонограммы.
На второй день дебаты по этому поводу продолжались: утром задребезжал на весь отдел звонок по коллектору – вызывал директор.
– Антон Васильевич, зайди, пожалуйста!
– Опять на ковер. – Выпускающая Рая хмыкнула.
В кабинете у директора уже сидели заместитель директора – Юрченко и начальник отдела реализации Меринский – пенсионер. Юрченко представил его как своего помощника. Он сказал, что только вчера завезли одну тонну картона на свои нужды. Да, подтвердил Меринский, завезли, но типография отказалась разрезать для нас, потому как сломался нож в резальном станке.
– Но они же могут взять этот картон, – сказал директор, – пока идет у нас инвентаризация.
– Да эта партия у них давно уже кончилась, – сказал Антон. Когда все-таки завезли?
– Только вчера, – сказал Юрченко.
– Вчера ли? Кто сказал?
– Евгения Ивановна.
– Нет, вроде б не вчера завезли, – засомневался Меринский.
– Вот видите! А вы, Саныч, проверили, что это так, лично? Это же так просто – снять телефонную трубку и позвонить. Я-то ведь не знаю этой дурацкой истории. Дай аппарат – и Кашин тут же позвонил Варваре Михайловне, поблагодарил ее за разъяснение и становился все злее: – Ну, значит, этот картон давно уже разрезан – кончился. Бригада давно стоит без работы. И ты, директор, больше не ставь меня в положение виноватого идиота. Написал я тебе докладную – прими меры. Уволь Саныча, Юрченко – больше проку будет. Все играетесь в членство в партии?
– Ну, какое это имеет отношение к делу? – возроптал тот. – Зря ты так…
– А как еще с вами нужно поступать, скажи!
Кашин знал: еще можно отупеть от проволочек такой ненадежной, нетоварищеской публики, не отвечающей ни за что.
– Да у нас дома сейчас как военные действия… – сказал Антон, войдя в свой отдел.
– Что… с женой? – вскинулась с испугом шустрая Надя Нечаева.
– Ну, народец-хват! – засмеялся Антон. – Сразу в лоб!
– А то как же, Антон Васильевич – Знаем вас…
– Наш старый дом до сих пор был с печным отоплением, и вот наконец провели паровое, поставили батареи, и жильцы с невиданной радостью стали ломать изразцовые камины и просто выбрасывать из окон во двор кирпичи – такой звон стоит… Стены равномерно просыхают от постоянного тепла и многослойные обои разрываются, лопаются со звуком пушечного выстрела.
– Представляю, как интересно, – сказала Надя.
Не зря же Антону этой ночью приснилось нечто сюрреалистическое.
Он будто бы в зеленом поле был – чем-то озабоченный. Небо тускло высилось над землей. Вдруг послышались вдали звуки странной музыки. И он завидел вскоре некий дикий гон ритмично надвигавшийся полукружьем на него, отчего он и всполошился соответственно: не облава ль это прет сюда столь воинственно? Было что-то на нее похожее. Только теперь с еще большим удивлением он видел все отчетливей: набегали полком в какой-то развеселой пляске, гремя брякушками, вроде бы литые, негнущиеся чурбушки-болванчики, да, да, чурбушки-болванчики на коротеньких ножках. То ли в кожу затянутые, то ли впрямь неживые, чугунные… Они, приплясывая на бегу под музыку и захватывая краем и Антона, разворачивались во всю ширь поляны. И как бы в такт сего бега-пляски лишь поигрывали влево-вправо тугим мешком живота, а на нем при этом по-чугунному бренчали якобы висюльки разные. Дрожала под ними земля. Были также тут и необычные львы – у вихляющих болванчиков на поводке, а какие ловко им подыгрывали, что ли, словно заведенные. И все они тоже мельтешили вперед под единым ритм такой вакханалии, вихляя головой и туловом и даже взбрыкивая, – в такт все громчавшей музыки: тут-тук-тук!.. – Молотила она, ровно молоточками. Да, зрелище было гадкое. Пока Антон в немом изумлении оглядывал всю кавалькаду эту, она – чух! Чух! Чух! – уже выплеснулась сюда, на простор, будто в чудовищной охоте на кого-то; она прижала Антона, единственного здесь зрителя, что на загоне, к выложенному длиной границей серому парапету, каким бывает окаймлен городской сквер либо газон. Однако за ним было как-то пусто. Нашествие накатилось довольно-таки резво, хоть и нешибкой трусцой. «Неужто теперь подобным образом охотятся на всех, в том числе на меня!?» – лишь мелькнуло в голове Антона. А укрыться явно негде на поляне ровной, без единого кусточка. Впечатление такое, что все кусточки и деревья уже выстригли здесь и что птиц повыгнали отсюда. Да и поздно убегать. Уже чувствовал: сейчас, сейчас болванчики его сметут, раздавят, разорвут на части… Просто на потеху…
Инстинктивно сторонясь правей, Антон вскочил на каменный парапет, хотя тот, невысокий, увы не мог ему служить достаточным укрытием. Но все же было понадежней так… Гремело все вокруг: туф! Туф! Туф! Ближе всех сюда неслась – туф! Туф! Туф! – вроде б главная фигура представления: круглая, блестевшая, как медный самовар без шеи и на ножках-закорючках, с маленькими ручками. И с бляшками. Только налетевшие эти фигуры с разворота обошли Антона впритык. И вот уже, бренча, удалялись также вскачь, увлеченные, видимо, самим процессом куражного движения, точь-в-точь как на сцене или в цирке. Чух! Чух! Чух!
После полудня, оставив в производственном отделе старшей выпускающую Надю, Антон поехал в больницу к жене, попавшей туда с токсикозом, вследствие неожиданной беременности от любовника. Сослуживцам он только сообщил, что она отравилась чем-то. Ее сильно рвало. Он не стал афишировать свой вторичный семейный провал с женой, позорившей-таки его, как мужчину, как бы все трезво тут ни воспринимать; позорно быть обманутым любимым человеком, которому он бесконечно верил и сам был ему верен, даже не имел намерений подозревать ее в измене.
И вот ошибся опять в вере своей.
III
Купив на Кузнечном рынке свежих помидор (10 руб.), яблочный сок, Антон приехал в роддом в четвертом часу дня при малочисленных посетителях, подошел к окошку в справочном и спросил, какая температура у Кашиной.
Медсестра назвала и прибавила:
– А сегодня уже был молодой человек. Привозил апельсины. Она все вернула.
– Значит, был брат, – солгал он.
– А Вы – кто?
– Как кто? Муж.
– Она все равно ничего не возьмет. Ей этого много.
– Мне обратно везти не хочется. Попробуйте, пожалуйста.
– Ну, сейчас попробую. – И молодая медсестра ушла с его пакетом.
Он стал ждать, злясь на того, кто довел Любу до этого. Тем временем вторая – пожилая – медсестра окликнула его по фамилии. Он снова подошел к окошку. Медсестра стала ему рассказывать, что температура держится у Вашей жены оттого, что она беспокойна, волнуется. Когда внизу у нас лежала, даже повеселела, получше стала после того как ее привезла скорая. А сейчас опять. Я захожу к ней, ведь уже знаю ее; предлагаю то, се – ничего не хочет. Может, селедочки принести? Нет, говорит, не хочу. Все обратно пойдет. Сок ей – самое лучшее. Уже всю искололи ее. Капельницы… Подкармливают ее… Сколько ж это может продолжаться? Я говорю: «Нельзя так со здоровьем обращаться…» Она: «Жалко ребенка. Я ж не такая молодая».
– Надо поговорить с врачом – вот приду во вторник, – обещал Антон.
– Да Вы требуйте, чтобы делалось что-нибудь. А то положили, и все. Утром придут, осмотрят, вечером – тоже, а целый день она лежит – мыслимо ли дело?
– Она даже одна?
– Да. Вот почему ей внизу было повеселее. Ну, конечно, попить – все это есть, под рукой, да и мы, сестры, заходим… Нет, надо что-то сделать. Если здешние врачи не могут, то должны положить ее в институт… Ведь делают же, когда месячные…