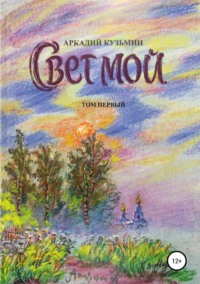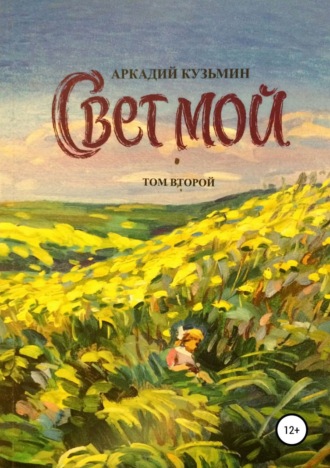
Свет мой. Том 2
– Ну, не задалось у нас… Поди ж ты! – Анна вовсе порасстроилась, упала духом: – Ай, как это плохо! Мы – ни на коне, в загоне.
– Потому что повернули на тракт раньше: ошиблись, – успокаивала всех Наташа.
– Да куда ж нацелиться? Кабы точно знать… Куда пойдешь, не видя ничего?
– Нет, – так и еще разок попробуем, попытаем счастья. Мам, ты не досадуй…
– Нету, нету, доченька, больше сил. Антон, ты-то как считаешь? Все равно бежать?
– Да уж, постараться, – спохватился (что помалкивал) – поуверенней сказал Антон, прогоняя прочь досаду за провал.
XIII
Итак, завернув, их вновь спровадили в конюшню, что зияла без стен и черно и фантастично кишела согнанным в нее людом над еще трепещущим огнем костров; специфично пахло горелым тряпьем, горелой резиной, обувью. Сочувственные и задумчивые бабьи взгляды, вздохи встретили воротившихся; всеобщую напасть все опять на себе примерили, поеживаясь. И старушечка приятная, молодоглазая, как майский день, и разговорчивая, как лесной ручей, та, которая остерегала еще Наташу, наказала ей лучше прятаться от глумливых глаз германца, была тут как тут опять – с котомочкой; приголубила Анну сердечно, ласково, как одна, видать, умела:
– О, ты не кручинься, не кручинься, матушка моя. Лихо перетерпится, и все по-старому должно уладиться, хотя гибло, тяжело. – Что весталка ей приговорила – легкими, округлыми словами.
Анне даже не хотелось отвечать на утешение, на ласковость: мочи не было. Она была точно птенец-слеток, выпавший из гнезда и не могший никак взлететь обратно; точно надломилась она от безуспешного взмахивания крыльями и следовавшего затем шлепанья. Однако она как бы для одной себя проговорила вслух:
– Знаю. То давно загадано, но пока не поймано. И всугонь за ним не нагоняешься. Как за солнечным зайчиком.
На это было сказано:
– Яблочное семя знает свое время. Вижу: у вас путь свободный скоро будет – и скорей, чем у других, мой свет – касаточка. Не тужи.
И легконогая старушечка точно бы растаяла во тьме, сама не нуждаясь ни от кого ни в чем, что Анне даже невольно подумалось, была ль та здесь или это пригрезилось только что. Только чудные слова она услышала. Несбыточные сны.
Где тонко, там и рвется.
Почти в изнеможении Анна опять села на втянутые в сарай облепленные снегом санки. В висках все отчаянней, упруже стучало: «тик-так, так-так, тик-так», ум у ней – последний, она чувствовала, ум – в буквальном смысле расступился, как она ни напрягалась для того, чтобы ей решиться побыстрей на что-либо новое. Здравый смысл ей подсказывал, что им бесполезно повторить попытку уйти сразу всем и что было б опрометчиво сейчас разделиться как-нибудь для этого, а других возможностей для совершения побега она уже и не видела. Плохо то, что в решениях порой ей просто нехватало смелой Полиной мудрости и неколеблемой безоговорочности, – она была сомневающейся женщиной, любившей все проверить и примерить, что было тоже мудро в ее особом положении многодетной матери. А драгоценное время шло себе.
Анна словно бы вобралась вся в себя и всматривалась, стараясь всмотреться поглубже. И услышала близко мужские голоса:
– Иной раз ей говоришь: заботишься ты обо всех… Ты – чудная мать… Не беспокойся ты! Вот какая натура!
– Да, говорят: не от нас свет начался. А, по-моему, он начался от них, матерей, от их любви.
А у нее в душе возникло нечто похожее на чувство тонущей: она его однажды испытала, еще будучи девчонкой, когда купалась в реке, на быстрине, где полоскала мать белье, и стала тонуть, захваченная водоворотом. Попав в него, Анна попыталась выплыть, подпрыгнуть и выплыть, но все же вода ее закрутила и над ней уже сомкнулась сводом голубым, тягучим; раза два или три только выскочив над поверхностью, Анна увидала плывущую к ней на помощь мать и лишь подумала о том, как хорошо мама плавает – точно рыба; если мама ее спасет, она тоже научится плавать так. И вслед за этим, уже погружаясь безвозвратно в глубину, подумала: « А мама не успела все-таки…» Однако мать успела к ней вовремя и ее за волосы вытащила на берег…
Сейчас с Анной было почти то же самое. Только рядом не было спасителя. Она сама отвечала за всех. Дети, правда, имели решающий голос. Но он ей говорил, этот голос, что прежде, чем что-либо снова предпринять, нужно все разведать лучше. Только так.
– Мам, а мам! – неуверенно позвал младший сын.
– Слышу… Что, сынок, нехорошо тебе? Болит?
– Все – бока… А я…
– Саша, мальчик мой, еще, еще погрейся у огня. Может, отойдет.
– Грелся уж. Да ты, мам, послушай!
– Ну!
– А я здесь увидел Катьку…Ту… Хотел тебе сказать.
– Это же какую?
– Разве ты не помнишь? Катьку, дочь самой Инессы Григорьевны, которая из-за нее, бывало, мне ставила двойки, – за длинный язык я лупил ее частенько.
– Неужели?! – Вашей прежней учительницы Катю увидел?!
– Ага.
– Она тут одна?
– Конечно. Ведь убиты родители. И она еще с кем-то… Говорит, их пригнали вчера.
– Ой-ой-ой! Бедненькая сиротка! Двенадцати и тех-то лет еще нет ей.
– Мам, а мам…
– Что еще, сынок? – Анну словно что толкнуло в некоем прозрении, обещающем почти спасение: она случайным взглядом уловила всплеск подозрительного повеселения, с каким Семен Голихин и Егор Силантьев, видно, замышляли что-то, так как, скрытничая, и спешно приготовляли к чему-то своих домочадцев. Они, активно-возбужденные, тоже возвратились только что откуда-то и, судя по всему, хотели куда-то насовсем убыть. – Говори скорей, сынок… Мешаешь мне…
– Мы давай, если опять пойдем куда, и ее возьмем с собой.
– Кого?
– Да эту Катьку с бабкой.
– Нас же и самих – полный взвод… Сашенька, помилуй!
– Ну и что ж! И Антон говорит: давай…
– Как хотите, если вы хотите… Было б ладно…
– Я пойду тогда сказать.
– Подожди-ка, нужно за Семеном и Егором приглядеть… Дело важно. Неспроста и девки Шутовы вьются вокруг них. Погляди-ка!
Утопающий за соломинку хватается. Анна понимала: что такое значила она! Была всего-навсего слабой женщиной, да и хвост у ней был внушительный. Потому, как ни неприятен ей был особенно Семен, она, выпрямившись, словно на пружинах, подошла к нему немедля; обратилась как к душеприказчику какому, или батюшке, – тьфу! – язык у ней повернулся. Ради же ребятушек…
– Семен Прокофьевич, скажите честно: вы собрались уходить? Если что, – возьмите тоже нас с собой! Неужели бросите меня-то с ребятишками?
Выла беспросветная метель, плевками брызгала в лицо. И дыхание спирало. Приходилось говорить, напрягаясь. И сопение Семена было тяжким и досадующим, так как все-таки он был испытанным страховщиком, тихоней с типичным для закоренелого до смерти индивидуалиста норовом: завсегда жил с оглядкой и прикидкой, как таился; спрос с него был невелик, коли был он приставлень известная – на всю округу. Для него любой режим годился. Он ответил взвешенно:
– Нет, Макаровна, не можем взять, сама понимаешь, не взыщи… С детьми… У тебя ведь столько их – ого! Не сосчитать…
И недвусмысленно взглянул на ее детвору.
– Но ведь Шутовых берете, кажется? – Анна наступала, ополчаясь на него, выходящего всегда сухим из воды. Вот тебе и недотепа. Не наделает ошибок.
– Упросили они раньше, – осклабился Семен.
– Где одни, там и другие, думаю, Семен Прокофьевич. Мы не стесним.
– Ой, прямо я не знаю… Тут всяк по себе.
– Пожалели бы хотя.
– Всех не ужалеть. – И он повернулся спиной к ней – мигом затворился наглухо. Залез в свою непробивную раковину.
Анна точно незаслуженную плюху получила от него, и ей было за себя обидно: никакой помощи от однодеревенских мужиков, когда это крайне нужно, когда больше невмоготу, а не то, что попросту приспичило. Похоже, она влипла подобно тому, как тогда – девочкой – в засасывающую жижу, только теперь уж никто из мужчин не спешил к ней на выручку, чтобы вытащить. Обидно. А она ведь откликалась, бывало, ни с чем не считаясь, если нужно было всем помочь. И такое было. Оттого, конечно же, расстроилась опять (нервы, нервы подводили – вся расхлябалась); как так можно?! Не могла взять в толк. Но, признаться, уж и зло ее взяло. Довольно деликатничать: терять им больше нечего – она с ребятами намерена пойти туда, куда пойдут Семен, Егор, нашедшие наверняка что-то подходящее для спасения – пойти наперекор… Все закономерно, правильно. С них не убудет. Нет, правду говорят: тот, кто родился со звездочкой, тот и околеет с лысинкой.
И она тотчас будто почву под ногами обрела, почувствовав себя уверенней.
XIV
В полусумраке Кашины, уже не выпускавшие из поля зрения навострившихся бежать мужиков со своими семьями, тоже снялись – с предосторожностью – следом за ними – из дырявого кругом сарая. А за Кашиными снова увязалась невестка Большая Марья со своими домашними, извинительно сказав:
– Хоть сзади, да в том же стаде.
Началась нелепая погоня, угодившая куда-то в мутный простор, что расступился прямо от ворот сарая, – простор, словно застилаемый дымом, оттого, что ветер нес и крутил снег. Полого скатывалась поляна в просторный овраг, заросший деревьями с провислыми заснеженными ветками. Беглецы не останавливались, стараясь как можно скорей скрыться незамечено отсюда.
Гонка всех изматывала.
– Что? Вы все налицо? Не молчите, если что… – и только оглянулась Анна раз, бежа, поймав взгляд Антона. – А Катя-то ваша где? Катю-то забыли?!
– Там сказали люди: им сподручней вместе всем… – отвечал Антон.
Анна оглянулась также и потому, что ей нужно было во всем разобраться. Пока это было у нее на первом плане. Не отодвигалось. Вызывало цеплявшиеся за все мысли. Ей хотелось поскорей их разрешить с самой собой, со своей совестью.
– Но, но, но! – напустился на преследователей издосадованный, вне себя, Голихин – лишь когда все ссыпались по снегу, как горох, в овраг; резким тонким женским голосом воззвал вдруг к бабьей совести, раскудахтался: – Рветесь на готовенькое, а?! Стыдитесь! Елки-палки… Мы вас приглашали?!
Анна же горестно молчала, тяжело дыша от перебежки, – не хотела говорить бесплодно с ним и вымаливать себе уступку – в сущности, у вздорного и ломливого мужика, с которым у нее давно разошлись пути-дорожки. А была бы сейчас Поля рядом – та бы его живо осадила. А то, ишь, страдания всесветные: не подпускал к себе – берегся как.
И вот еще один рывок. Плавали в снегу по пояс. На хвосте все время удиравшей вперед группы, предводительствуемой мужиками. Черные и обметеленные однобоко стволы деревьев, точно смещаясь, путались с темными застревавшими фигурками людей. Но скоро все беглецы, проплутав, домчались к своей цели: над овражьим, невысоким склоном вспучилась обширная землянка – и заманчиво в темноте виднелись вход в нее с дверью и оконце даже.
Все обрадованно, стараясь не шуметь, спотыкаясь и шикая друг на друга, полезли внутрь землянки; здесь-то и Семен даже помалкивал и не упорствовал – не рисковал быть особенно шумливым. Тем более, что землянка вместила с лихвой всех тридцать с лишним человек сбежавших (Наташа подсчитала быстро). Такой вместительной она была потому, что недавно в нее немцы тоже ставили своих лошадей: она на стойла разделялась. Однако конюшенные запахи уже повыветрились, выстудились из нее, а дощатые стойла были достаточно чисты, сухи и удобны для того, чтобы их использовать в качестве кроватей. Чтобы было мягче в них лежать и спать, нужно было только застелить их чем-нибудь, хотя бы еловыми ветками.
Так и сделали, позавесив тряпками оконце и дверь, и зажгли плошки. Правда, здесь же преуспели самые ухватистые – люди с безнадежной глупостью и с некоторой еще вольностью ума, думающие, что теперь уж дозволяется им все, что ни захочется: впрок позахватили себе столько места, что для тех, кто последними в такой компании поспел, не досталось почти ничего.
Анна не могла смириться с этим и сказала только:
– Куда класть детей? Может быть, удельные князья все-таки подвинутся?
На нее накинулись. И пошло-поехало. Накалились страсти. А, в конце концов, хапуги согласились, потеснились – только после того, как Голихин, опять, будто став решающей фигурой в столь разноголосом женском царстве, для внушительности пульнул матом: каждая семья завладела одним отделением конюшни.
Вследствие негожего подобного распределения Анна со своей самой многодушной семьей, – она не отделяла от себя Дуняшку и ее ребенка, – удовольствовалась тоже, как семья невестки, Большой Марьи, тем, что всем им, для того, чтобы поместиться в нешироком стойле, пришлось лечь поперек, а не вдоль, как легли другие беглецы, и спать полусидя, или подбирая ноги. Но и этим-то они обрадованы были чрезвычайно. Ведь впервые, после лютой двухдневной гонки на февральском ветру, они могли выспаться почти по-человечески, в каком ни на есть тепле, распространяемом от печки, под которую у немцев была приспособлена стоймя обычная железная бочка из-под бензина. Ее разожгли, едва набрали в леске хвороста и подходящих дров; она весело трещала и гудела. Да вдобавок славно напились (отчего согрелись, наконец) кипятку, который на ней вскипятили в ведре, в бидончиках, – внизу текла речка и на ней была прорубь, не затянутая льдом.
А за ночь возле жаркой печи и можно было высушить одежду, валенки. Впрочем, в тепле одежда отлично сохла и на спящем, – ее и так не хватало для того, чтобы накрыться всем. Поэтому права была Дуня, которая, торкнувшись в стойло, блаженно проговорила:
– Господи, какое счастье! – и тотчас стала засыпать, хоть и подкашливала натужно.
Все убаюканные теплом, тишиной, успокоились, угомонились. А Анна еще долго, слыша посапывание, всхрап и метанье во сне и не зная, спит ли сама, нет-нет и спрашивала тихим голосом, привстав:
– Дуня, где ты? Наташенька, ты тут? С нами? Танечка! Верочка! – как бредила. И, как в бреду, ощупывала осторожно детей руками; и, наклоняясь над самыми их лицами, прислушивалась к их ритмичному дыханию и сонным вздрагиваниям и вздыхала.
Меньшая, Таня, как привыкла во время бомбежек спать, цепко держась за руку Наташину, – она боялась, что ее бросят, оставят, потому что мать иногда вгорячах говорила, чтоб пропали они дети, – так и спала теперь, в этой заглубленной конюшне, не выпуская руки старшей сестры. Неспокойно спала так и вздрагивала. Она все задыхалась в своей землянке. Не хватало воздуха. Но когда ей предлагали: «Ну, выйди на свежий воздух, подыши», она и тогда не выпускала Наташину руку.
Где-то совсем в другом – поднебесном – мире завывало и вихрило, и Анну сейчас же бросало в дрожь от одного лишь представления о том, что же происходит с людьми в сарае без защитительных стен. И оттого, что посчастливилось им попасть сюда, она сильней печалилась и жалела добрую золовку. Каково-то ей? Где теперь она?
А потом Анна совсем хорошее увидела: она, довольная, командуя своей малышней, грабила сено, чтобы до дождя переворошить его и убрать в сарай, и ноги ее легко скользили по теплым мягким валкам, и пахло медово кашкой. А на обед должен был с работы прийти Василий – она торопилась, чтоб успеть до его прихода.
С рассветом беспокойство овладело каждым, кто мог думать, кто способен был соображать. Что, как там, в пункте сбора, недосчитавшись, их уже хватились – подняли тревогу, рыщут? Как, куда бежать? Когда собственно в мешке… куда незвано затесались сами, точно овцы. Если еще эти немцы из того незамеченного ночью блиндажа, в совершенной близости отсюда, всякую теперь минуту – так и жди – могли обнаружить их в собственных владениях и шугануть их с наслаждением. Сейчас никуда уже не выскочишь, не перетащишься; видно, нужно затаиться здесь, переждать немного суету. Положиться на «авось». Ох, и горькие ж головушки! Головушки еще гудели – от ветрового двухдневного напора на шагавших по юру… И страдальцев еще пошатывало на ногах…
Бабы даже и не сразу пришли в себя и поняли, что поскуливал здесь тоненько ребенок чей-то. Но вскоре завозмущались:
– Где же это мать? Дите плачет – она не успокоит!
А он – это Славик был, сжавшись комочком, почти у самой-то двери, замерз вместе с матерью. А как взяли его к нагретой печке, тотчас и замолчал.
И Дуня добавила себе простуду: горела вся. Покалывало у нее в груди: плеврит. Зато новый день голубел в довольном успокоении. Велик. Чуткая звенящая тишина стояла на воле.
XV
Это трудно описать. Как подглядывали, затаив дыхание, приникая к дверным щелочкам да к отдушинкам в окошке, обращенном на юг тоже, – за тремя серо-зелеными, что привидения, солдатами, которых опасались; как те, будто бы догадываясь о присутствии в своей конюшне русских, но скользя лишь равнодушными глазами, если попадали сюда взглядом, буднично-размеренно здесь жили, хаживали, умывались, чистились, дрова кололи, заворачивали в уборную; как они потом повсаживались в вездеход, выкатившийся прямо перед самым носом наблюдавших, и умчались на нем наспех. Им, похоже, никакого дела не было до русских. Не было и все. Они заняты совсем другим.
Однако не поверилось: неужели то возможно? Пока, значит, пронесло? Не очухались немцы еще? С утречка пораньше… Нет, не может быть! Только первый нервный шок у всех прошел; народ снова стал кумекать, сообща прикидывать. Хотя мнений было много, старшие порассудили быстро, что к чему: может, даже к лучшему, что так, что в таком неожиданном соседстве очутились – сюда мало кто и сунется, – надежное укрытие; только нужно высидеть потише, без особенной на то нужды на виду не дрызгаться, не пялиться, чтоб не подвести под монастырь всех до единого.
И воодушевившийся теперь Голихин возгласил: «Это бабы должны последить за ребятами своими. Ясно сказано?» Ясней было некуда.
Он, словно покровительствуя вынужденно, метил в Анну и отчасти в Марью, – все косился на них, уязвленный их своевольной независимостью, вроде б ущемлявшей его роль. Но и пусть себе!
Несомненно он старался, как и прежде, уберечь себя от всех случайностей судьбы; но объективно будто выходило: беспокоился за общество, за всех. Он все-таки какой-никакой мужик. И, поскольку они, исстрадавшиеся бабы, лучше его понимали сами, что и почему теперь всех соединило здесь, несмотря на то, что люди в оккупации нанесли друг другу множество непрощаемых вовек обид и оскорблений, они нынче соглашались с ним охотно в том, что касалось общей безопасности – признавая за ним некоторое превосходство в мере ее соблюдения, даже полагались на него, его верховодство над всеми. Все-таки никто не хотел подзалететь, попасться в лапы гитлеровцев по-дурному. Именно теперь.
Ну, и надо было как-то дальше жить; не ждать, пока манна небесная сама упадет с небес. Прямо в руки… Так бы ничего вовек не получилось. Можно запросто умереть.
С насторожением высунули нос на запеленатую, заколдованную нынче улицу. Благо соседствующие немцы залимонились куда-то – и рядом не было покамест лишних глаз. Перво-наперво натаскали дров, водички из проруби; растопили бочку-печку (она затрещала, защелкала) – бабы стали на ней кипяток готовить да лепешки печь. Пекли их простым и самым подходящим, придуманным кем-то способом: так, верхнюю плоскость раскаленной бочки посыпали чуть крупномолотой мукой, а на слой ее уже клали кружочки теста – и лепешки пропекались, не прижариваясь и без масла. Лучше было не придумать.
Худым только оборачивалось то, что все ощетинились, порастопырялись в землянке; каждый гнул свое – и к печке было-то не подступиться совестливым и стыдливым. Все-то были предоставлены самим себе. И кой-кто еще кочевряжился – подстать Голихину и с его, должно быть, легкой руки. Не стыдно было.
Анну и Наташу, и Большую Марью от жаром полыхавшей печки оттесняли – лишний раз не сунешься к ней. На скандал нарвешься… Потому как не случайно молодухи дребезжали:
– Вы не лезьте перед нами! Нечего! Вперлись сюда на чужое, черти полосатые, как нахлебники… После нас валяйте, после нас! Жарьте, кипятите… А пока и можно тихо посидеть… Подождать…
Мало того, забияки в этот момент еще напевали что-нибудь препакостно: дескать, сполна от нас получите – мы такие…
Всегда в мире то. Люди-то не золотые, нет; никогда они не будут ими, ни за что. И нечего рассчитывать. Вот умри – перешагнут и все.
Невозможно все пересказать в подробностях, как что кто сказал кому, как взглянул и что еще подумал кстати и некстати; чтобы все это понять, нужно пожить той же неизнеженной, суровой жизнью в аду оккупации да издрожать такой же дрожью на морозе и в конюшне (а не в городских очередях, пусть и зимой, у пивных ларьков и водочных богаделен). Сытому и чистому все это не понять, к этому не прикоснуться сердцем.
– Вот если бы найти отдельное прибежище какое нам, – пожелала Анна с грустью. – А так кто ты здесь? С бока припека, по-ихнему. И все. Можно вытворяться.
– И все, – повторила за ней Таня. – Вот какие пушки нехолошие. Опять снились мне. Лаз – пушка, два – пушка, – перебирала пальцы.
Одевшаяся Наташа поправила шаль:
– Мамочка, я все понимаю хорошо. Не расстраивайся.
Было им уже невмоготу ждать, когда их подпустят близко к печке, – сильно хотелось есть, и Наташа с Сашей отправились пока побродить в лощинке, чтобы разведать хорошенько, что находится поблизости.
XVI
Они, вспарывая валенками свежий глубокий снег, углубились в окрестный лесок непроторенной дорожкой.
Наташа успокаивала столь издергавшуюся мать, а сама-то незаметно для самой себя развздыхалась, едва в глаза ей заполыхнул свет белого простора, какой в прежние мирные дни, бывало, только радовал и обвораживал своей сказочной легкостью, нарядностью и завершенностью видимых линий, красок. Нет, нынче она не обманывалась, а уж точно, с закрытыми глазами знала, что в ее-то летящей куда-то душе чувства почти песенной гармонии со всем этим не было. Да, не было его и быть не могло никак. Для нее, увы, такая гармония слитности уже кончилась. Все разладилось, и нехватало уже какой-то прежней устойчивости, цельности, округлости мира в ее представлениях его сложного образа, словно он, как при землетрясении, прорвался со всех сторон, и все противоестественно и отвратительно торчало в нем наружу, повергая сплошь людей в отчаяние. И, следовательно, нужно наново находить себя, отыскивать иную даль – прибежище.
Прежде Наташа много, жадно читала – пропасть всяких романов, один другого значительней, захватывающей; пришедшие открытия, испитые из них в ее уме наслаивались на зримые, уже существующие вокруг нее понятия и истины. Стало быть, очень естественно обкатывался, вращался ее клубок возмужания, еще не закончившегося. Но смешно: тогда, когда, бывало, она задумывалась (не теперь) о дальнейшей собственной жизни, ей, как ни диковинно это казалось, представлялось все таким же обкатанным, круглым, с такими же мужскими позолоченными круглыми часами на цепочке и спокойно-довольным мужем, с наслаждением курящим папиросы «Беломорканал», как и в доме очень молодой тети Маши, маминой сестры, носящей к тому же круглые жемчужные серьги, которые очень красили ее. Так поразительно увиделось Наташей однажды, до войны, во время своего делового визита к родственнице вместе с Антоном и Сашей, которых она сводила на примерку: ее портняжничавший муж Константин шил для них сразу два простеньких костюмчика из одного дешевенького материала.
У большой семьи, известно, забот столько набирается, что не зевай – только и поворачивайся туда-сюда; всех обшить-то мало-мальски было нелегко, непосильно, и потому справлялось только самое необходимое, что попроще, чтобы было в чем, главное, ходить в школу.
Наташа помнит, как сейчас: летний день уже клонился к вечеру, и она очень спешила с братьями, шагая во Ржеве от Маслозавода проторенной дорожкой напрямки, по нескончаемому зацветшему картофельнику, мимо дощатых бараков-складов «Заготзерно»…
Ладный Константин примерил на ее братьях скроенный и сметанный серенький материал, вынул из карманчика жилета золотые пузатые часы на золотом брелоке и завел пружину, и послушал их переливчатую мелодичную игру. А перехватив восхищенный взгляд Наташи, сказал односложно:
– Это Машин подарок мне… Ну, мне пора. Время – золото.
Наташе потом некоторое время грезилась именно какая-то такая тихая захолустная жизнь – среди сирени, над Волгой, с этим мелодичным звоном в ушах, а дальше этого представления не пускались покамест.
«Ну, сейчас схожу, а потом, когда все уляжется, продолжу, запишу, что такое было с нами в эти три дня, в которые я ничего еще не записала; только бы не пропустить их – записать, если уж взялась вести, – говорила себе Наташа, радуясь, главное тому, что могла сейчас одна побыть и подумать о чем-то возвышенном. – Взялся за гуж, не говори, что не дюж», – говорила она себе в мужском роде. Она, надоумленная скорей желанием матери видеть историю их военной жизни записанной (Анна частенько говорила: «Что, если бы все, как есть, записать, – никто не поверил бы потом, что такое могло быть»), в глубокой тайне от всех, лишь открывшись как-то ей одной, вела подробнейший дневник. Может быть, под влиянием того, что это уже давно, еще с довоенного времени, делал Антон.