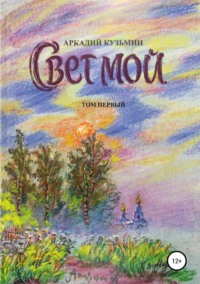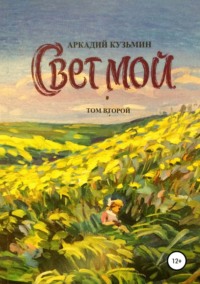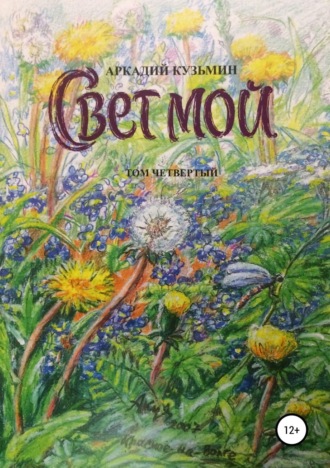
Свет мой. Том 4
– Я только предположила, дочка…
– Не лучшее, однако, у тебя предположение…
– Я только пытаюсь… Ой, опять разболелась голова… неладная… ничего не могу сообразить.
Семейные заговорщики не хотели никак смириться с провалом их затеи. И дальше они – Янина Максимовна, вся испереживавшеяся из-за нерешенности главного вопроса, не очень-то, видимо, и хотевшая развестись с мужем, человеком, с которым уже прожила столько лет, а более всего, хотевшая с помощью взрослых детей как-то наказать его за рукоприкладство, и взвинченный из-за этого Анатолий, и здравомыслящая Люба, которой некогда доставалось от отца за свою непокорность (причем мать не защищала ее в таких случаях), – все они сейчас и дальше еще с азартом строили решительные планы, с чего им нужно конкретно начать с ним, Павлом Степиным, новый серьезный разговор и что от него потребовать.
Антон слушал их с вниманием. И чем лучше он вникал в смысл затеянного ими дела – развода супругов, тем отчетливей видел бессмысленность его, отсутствие здесь обычного здравомыслия. Появилась суетность как при стихийном бедствии, и только. Оно захватило людей врасплох.
– Да вы не переживайте так, – успокаивал он горемык таких. – Все, что не делается, делается к лучшему. Поверьте! Ладно, будет вам артачиться зря. Садитесь к столу. Сейчас откроем бутылочку полусухого молдавского вина. Я только что ее купил – думаю, как раз к месту… Коли вы приехали… Выпьем за свободу ваших личностей… От всяческих насилий…
Антон, как зять, умеренно относился к обоим родителям Любы. Он, правда, не понимал их непартнерских, неравно уважительных отношений друг к другу; но излишне было для него выяснять – да ни к чему – их супружеские отношения и тем более заниматься их мирением публичным. Ведь подобное неподвластно никакому классному психологу. Тут бесполезны всякие уговоры, раскаяния, нахлобучки.
Однажды кто-то сказал ему назидательно:
– Это гении всегда делают все не так. А у обычных людей – обычные происходят вещи.
Пожалуй, так.
Как-то Павел Степин откровенничал перед Кашиным:
– Если есть у меня двадцать копеек, – я за трамвай не уплачу, а лучше пешком пойду – не потому, что жалею деньги, а потому, что я уже такой, – во мне такая психология выработалась, и меня не переделаешь уже. Я лист бумаги и на работе и дома понапрасну не могу потратить, кусок черствого хлеба не выброшу – съем; это – не от одной лишь бережливости, жадности либо скаредности. Нет. Но это-то как раз кому-то и не нравится, кто-то – с совсем другими запросами. Так зачем же я буду подделываться под других? Я – человек физиологии. Могу изругать человека ни за что, если голоден. Поел – хорошо мне; мало – еще заложил. Очень просто. Зачем мне волноваться? Это во мне плохо устроено. Но другой человек живет разумом: ему нужно – он и поступает соответствующе разумным образом. Но нельзя переоценивать себя, свои порывы. Правда, признаюсь, сдерживаюсь иногда. С чужими людьми веду себя поаккуратней. Не могу, например, сказать ничего такого, что сказал бы сыну своему. Сказать: тебе-то что? Вот мы кувыркались в жизни – теперь и вы также покувыркайтесь, мол.
Да, сколько он не говорил того, о чем думал не столько для себя, сколько для других, как ни противоречивы, неожиданны, резки и сумасбродны каждый раз казались его высказывания, он только говорил для других то, что казалось ему, оправдывало целиком его в необъяснимых поступках, сама его жизнь. Так по крайней мере считал он сам.
Философствовать в таком духе с ним не хотелось.
Да еще он присказал:
– Знаете, поскольку я принимал участие в устройстве в толин институт юноши из Трибулей моих и он жил у нас до поселения в общежитие, мне прислали его родители в знак благодарности три мешка картошки. Я не просил, но они прислали. Так вот вошел шофер, тертый, малый, оглядел нашу квартирку. Я еще спросил у него, как живет Грохов, с кем вместе учились. Он сказал, что живет ничего. Потом обвел глазами помещение нашей квартиры и сказал очень уверенно: «Знаете, мы раза в два лучше вашего теперь живем? Представляете: это сказал парень из псковского села! Ему десяти минут было достаточно для того, чтобы придти к такому выводу. Уже если псковские жители в два раза лучше нашего живут, то что уж говорить об Украине. Мы – кочерыжки, оставшиеся от прошлого…
VII
Брата и Люба жаловала при встречах – приглашала всякий раз:
– Ну, поедем к нам обедать. – Поскольку знала, что золовка кухню не любила и он был некормленый. А поесть он любил. Все-таки был у него здоровый организм. И он спортом временами занимался.
Причем глава семьи Павел Степин теперь, сталкиваясь с подобными непорядками в жизни по его разумению, восклицал:
– Ой, куда мы едем?! Представьте: приехал на Скороходку к сыну в семь вечера – все они, родители и дети, сидят на диване и обсуждают свои дела институтские. А дома нет никакой еды, дети ненакормлены, неухожены. Вечно есть хотят. И Толя сам голоден – щеки у него провалились. Нет, это мы с Яной Максимовной, наверное, что-то упустили тут, не смогли полноценно воспитать Анатолия. Не буду говорить о Лене. Так на что же будут годиться их дочери? И куда же мы с этой эмансипацией идем?
И действительно: вот только заехал Анатолий, весь забеганный усталый, жалостливый, к Кашиным за излишками продуктов, как прежде всего спрашивал у сестры, Любы:
– Есть что поесть? – И сразу привычно шасть к столу.
Да, проблем у него много, помимо семейных. Семейные уже не в счет. Прибежит домой из института с лекций, спросит:
– Есть что поесть?
Девочки говорят, что нет. Иногда он сам схватит сумку продуктовую, бежит в близстоящие магазины; иной раз посылает старшенькую Ирину, чтобы она купила что-нибудь съестное. А Лена, женушка, работающая в лаборатории при ЛЭТИ на 100 рублей, вкалывает лаборанткой на совесть и чуть ли не ночует здесь. И она-то еще пишет кандидатскую диссертацию! Так что он, Анатолий, ее не видит дома по две недели подряд. Он еще связался с группой экспериментальной физиков. А для экспериментов деньги нужны очень. Крайне нужно заключить договор на следующий год. Хлопотал, хлопотал он сам об этом, дохлопотался: прислали бумагу – запрос министерства, а ее не туда здесь направили. И другая институтская кафедра, не имеющая к этому никакого отношения, отписала: дескать, эти темы нас не интересуют. Представляете! Теперь нужное время время ушло. Тому, что отписался, конечно, нахлобучку дали, разобравшись. Но забот прибавилось.
– Стал я искать другого заказчика, – рассказывал Анатолий. – Открытый договор заключается до первого декабря (время это ушло), а закрытый в любое время. Веду с заказчиками переговоры. Дают приличную сумму – тысяч сорок пять. Это как раз группе хватит на зачин. А профессор Юков…
– Сколько ему лет? – перебила его Люба: она знала, видела этого Юкова.
– Шестьдесят.
– Шестьдесят!?
– Да, представь. Он очень дипломатичен в любых вопросах. Не спешит. Расскажу один случай. Принимали одного физика. Толковейшего. Я первоначально поговорил с ним. Велел его привести. Смущало меня то, что он подевреивает. У него отец – еврей, мать русская. Юков очень придирчиво расспросил о нем, сказал: приводи! Ну, привел его к нему. Беседовал он с ним между заседаниями совета. Ничего определенного не ответил человеку. Потом мне говорит: приведите мне его мать – я хочу на нее посмотреть. Что ж, попросил я знакомых по институту женщин передать ей его просьбу. Раз вижу: она идет. Я предупредительно поговорил с ней – и сказал, чтобы она не придавала этому особенного значения, что профессор ничего определенного насчет его сына не скажет. Так ведь и получилось. А этого физика уже другие кафедры рвут: каким-то образом мигом узнали, что мы втихаря ведем переговоры с нужным нам специалистом – ему и посыпались заманчивые предложения. Лучше наших. Пошел я к Юкову:
– Как же быть?
– Да, знаете, он ведь из этой школы… – И называет мне название школы. – А ведь там сплошь сионисты были.
– Вот как? – изумилась Люба.
– Да, видно, обстоятельства научили его осторожности…
– Скажи, а существует ли сейчас какой-нибудь примерный норматив для оценки знаний абитуриентов, чтобы не было в этом разночтений? – спросила Люба.
– К сожалению, нет. И никто сейчас не знает, как лучше. Только нужно так сделать, чтобы все в приеме студентов выглядело объективно, чтобы можно было объяснить провалившемуся или их родителям, почему он или она не прошли. Вот поступил к нам отличник круглый. Вижу: оценка комиссией дана низкая. Говорю: нужно парню пятерку поставить. Мне говорят: понимаешь, он плохо отвечал. Ну, приняли мы его. А с первого семестра отчислили – не потянул он материал учебный. Уж больше я не просил за такое. Не собеседовании сразу или многое видишь, кто чем из абитуриентов дышит. Спрашиваешь:
– Почему вы вот это слабо сдали?
– Да, было, не позанимался больше… – отвечает тот.
– А вот пишут в характеристике: не прилежный?
– Да, это было…
Потом видишь фотографию – лицо примелькается. И уже о человеке создается представление более или менее определенное, не расплывчатое. Обычно приезжие менее собранны, им труднее с жильем (общежития нет), с питанием, с финансами – и они потом не выдерживают интенсивной нагрузки. А почему идут к нам? Потому что есть у нас громкое название – ЛЭТИ.
Один грузин пришел ко мне на собеседование. Демобилизовался в прошлом году. Спросил:
– Работали?
– Да, дома. – Он не уточнил, где именно дома.
– Нужна справка о трехмесячной работе.
– Будет!
И приносит ее мне – написал какой-то бригадир.
– Нет, это не годится. Нужна с печатью, государственная.
– Такую я достать не могу. – Так и говорит мне.
– Ну да. Школьный аттестат-то он, верно, купил, а на справке осечка вышла.
– Скажу, не все наши усилия находчивы, дают плюс. Шлифуются практически… в процессе… При взаимопонимании… Мне и Пашка Глебов говорил: «Вот мы, мастера радиотехники, соберемся… Я что-то такое придумал, а другой в пух и прах разругает этот мой проект. Вот это сократи. Вот это убери». Покуришь – и уж сам на свой проект смотришь другими глазами. А потом оппоненты: знаешь, извини, может быть, мы слишком строго подошли. Но иначе-то, без всякой практики мысль не будет двигаться вперед.
Антон тут окликнулся:
– Все похоже при творчестве. Это как, скажем, при вычерчивании плана, графика на бумаге. Для того, чтобы линия повсюду ровно шла, надо: во-первых, держать раствор циркуля одинаковым для линий одинаковой толщины (с целью красоты и наилучшего воспроизведения в печати), во-вторых, как бы разбегаться в ней до линии разбега и останавливаться позади самой линии (а потом лишние линии убрать) –не то линия в начале и конце будет с затирками и неодинаковой толщины, а в третьих, следить, чтобы тушь не засыхала в рейсфедере и не было каких-либо волосков, клочков, а в четвертых, проследить за годностью туши и бумаги.
Да это было бы слишком простое повествование, даже упрощенное; мы не умеем предвидеть события через зеркало времени и быть готовыми хотя бы восприимчиво к ним, чтобы не паниковать зря. Вообще человечество пока занято (и вечно, думаю, так будет) непотребными игрушками, вроде золотых уборов, быстроходов, вертушек, – ему до насущных изысканий всего и дела никакого нет, вот насытиться, обкуриться, напиться, подраться, поквитаться – другое дело, лафа.
– Слушай, Кашин, остынь, а, – попросила Люба нервно.
– Но мы ведь и вертушки придумываем, – сказал Анатолий. – По физике… Вот только иногда соображения и силенок не хватает.
– Сынок Толинька, тебе следует больше отдыхать, не зарабатываться так, – умоляла его Янина Максимовна. – Прошу!… Ну, поехал бы ты вот вместе с Антоном туда, куда он собирается ехать летом. Все надежнее было бы, и мне спокойнее было бы… Вот только наш этот разводный вопрос разрешить как-то… получше…
– «Как-то» не получится, мама. – Люба заметно волновалась, была возбуждена и вздыхала. Ее злило материнское сюсюканье перед сыном и какое-то поверхностное рассуждение о разногласии с мужем-деспотом.
Этого и Антон не понимал. Ни за что.
Янина Максимовна сказала, что она очень хотела бы теперь жить с детьми, жить их радостями. В переводе с ее языка это точней означало: жить себе в удовольствие. Но разве жизнь и складывается только из одних радостей, одних удовольствий? Ими дорога в рай вымощена? Да, почему-то всегда лишь это выделялось, или верней, признавалось ею особо. Впрочем то была черта семейная: ведь Павел Игнатьевич с сыном также воспринимали весь мир как их должника им – пусть за счет других малоимущих, тех, которые могут и потерпеть. Тут становится понятен и голос их дочери, Любы, считающей иной раз, что ее жизнь заел кто-то другой, еще не дал ей столько удовольствий и радостей, на сколько она, наивная, рассчитывала при замужестве. Это примерно так, как в обычной очереди, как все желающие что-то получить подешевле, одновременно к ней бегут и хотят хоть на чуть-чуть опередить друг друга или отталкивают плечом один другого, чтобы втиснуться вперед других. Но такие разве отношении должны быть у близких людей? Вообще у людей?..
Какие отношения? Антон не понимал. Все – блеф! Его отталкивала от обычного сближения с людьми их непорядочность, проявляемая ими даже открыто, почти с фарсом, как некая разрешительная мужская доблесть. Прочь все сомнения, игра в невинность! Мир наступил другой. И стало можно позволять себе все такое запредельное. Чай, не преступление ведь…
Антон недавно на себе испытал нечто подобное, будучи на праздновании дня рождения тестя.
Он с Любой приехали к ее родителям почти одновременно с Толей и Леной – чуть пораньше их. И сначала Любе испортила настроение мать: она даже не поздоровалась с ней, вошедшей в квартиру первой, как затем и с невесткой, которую откровенно не любила и давала ей это понять, а прежде всего кинулась обниматься с сыном, вошедшим в квартиру последним, и только после этого уже обратилась к дочери и заметила невестку. Это было неприятно Любе, приехавшей в лучшем бело-розовом платье, с прической в лучших туфлях. И такой раж матери оказал неприятное влияние на всех присутствующих.
Анатолий по-всегдашнему торопился быть везде: завтра у него с восьми часов, начинался новый лекционный курс в институте, а тем вечером он собирался поехать в Москву на очередной симпозиум физиков. И, хотя он преуспел в чтении курсовых лекций, он оказался вместе с тем как бы с неважнецким провинциальным воспитанием: даже надлежащий тост за здравие отца он не мог произнести перед гостями; только что-то проговорил, сидя, тогда, когда отец поднял рюмку с водкой, и сказал:
– Ну, что же, выпьем за меня?
Но затем, когда все гости уже изрядно насытились честь-по-чести, сидя за круглым столом, произошло уж нечто несуразное, дичайшее. Все благожеланно рассуждали о заметных событиях, талантах, героях, космонавтах и Антон лишь заметил в связи с этим –поумствовал чуть:
– А, полноте, Николай Павлович у нас власть столько загубила народных талантов, что ни счесть их имен; свобода и рай, о чем открыто трубили, не дошла до потребителя. И не дойдут, пока продолжается классическая шпиономания. Одних певцов просто укрощали: не те песни пели, а других, как мою сестру, даже не допустили ни до песен, ни до учительства: как же она в семнадцать лет попала в оккупацию немецкую – позор ей!
И что тут началось! Николай Павлович пока еще служил начальником строительного треста города, был другом первого секретаря обкома партии. Он вскочил из-за стола с багровым лицом. Кинулся в прихожую, схватил пальто, шляпу. Звякнул дверью… Вскочил незамедлительно с руганью и Павел Степин. Вознес над головой Антона, сидящего напротив его, стул. Ай-ай! Ужасаясь, все гости мигом бросились из-за стола; их словно ветром сдуло, бедных. Антон даже не дернулся нисколько с места, зная и видя, что тесть трус, и глядя в его перекошенное гневом лицо, но все же удивляясь себе, в упор ему только проронил:
– Ну-ну, кони вороные…
Почему он так сказал, он не знал.
И уже подхватили сестры Яны отчаянно за руки своего буйного брата, уговаривая. И они-то и Янина Максимовна тоже стали слезно просить, умолять Антона, чтобы он поскорей уехал подобру-поздорову. Ведь получилось по их понятию, что Павел Артемьевич был им как бы опозорен, главное, именно перед самим Николаем Павловичем, фигурой, полномочной для них.
А ведь всего, о чем сказал Антон, уже никак не являлось расхожим домыслом, и о том известно было многим давно. Так, кажется, еще в 1937 г. учителя велели второклассникам перечеркнуть крест-накрест в учебнике портреты нескольких военачальников. Потом, в 1944 г., Антон, оказавшись в военной части, стал невольным свидетелем одного разговора…
VIII
– А что, не скажете, с капитаном Мурашевым? – обеспокоенно спросила раз повар Анна Андреевна, подав обед молодому пронырливо-бойкому солдату Сторошуку, который являлся его подчиненным в штабном отделе.
– А что именно? – зыркнув острым взглядом, переспросил тот из-за стола. – Он жив, здоров, как водится.
– Да нет… Вечно он какой-то скрытный, смурый ходит. Как больной. Отчего не знаете?
– Ума не приложу и сам, – ответил Сторошук, пожав плечами.
Действительно, все заметили, что с тех пор, как Мурашев появился в Управлении полевых госпиталей, он будто был в какой прострации, не иначе, – всегда такой обособленный от других, застегнутый на все пуговицы, в шинели, глухой и молчаливый, он редко улыбался, особенно не разговаривал и не сближался ни с кем. Как будто виновато прятал глаза от людей. И где-нибудь курил втихомолку. И все сторонились его, словно тихого чумного, болевшего неизвестной неизлечимой болезнью, хотя он и не говорил еще ничего никому – не был любителем рассказывать что-либо. Но кое-кто из младших штабистов, проявлявших интерес ко всему, сближался с ним постепенно, в ходе совместной работы. Во всяком случае однажды в декабре под Острув-Мазовецким приехали в часть парикмахеры и все сослуживцы – и он тоже – стали стричься, бриться. С шутками. С хорошим настроением. Приближался Новый год.
С легкого морозца все вошли в барачного типа дощатое строение, дополнительно освещенное электричеством и задрапированное простынями, что создавало праздничный вид, уют. И вдруг Мурашев, показалось Антону, снимая ушанку и приглаживая гладкие рыжеватые волосы белой рукой, и на мастера взглянул пристально, будто вздрогнул слегка, смутился, но не выдал большего волнения, увидав, что обознался все же в ком-то.
– А-а, не буду я, – повернулся он вмиг, сутулясь и вышел вон.
А очень скоро Антон открыл невероятное объяснение всему этому.
Случилось, он вступил совсем неслышно в полутемный коридор (при коротком зимнем дне), а в нем-то, ведя увлеченный разговор, перекуривали трое – капитан Мурашев (он стоял спиной к Антону), остроглазый Сторошук и чернявый Коржев. Они тоже точно не заметили Антона, хотя и видели все-таки, или были все во внимании. И ему бы уйти также незамеченном восвояси, да он только сильнее затих от того, что услыхал впервые из первых же, наверное, уст. Сержант и солдат спрашивали у Мурашева:
– И много было таких… политических в заключении?
– Полно, – отвечал он.
– Что, и расстреливали, сказывают, их?
– А то что ж. Не церемонились.
– А как же это было?
– Как? – Хмыкнул капитан. – Очень примитивно-просто.
– Расскажите.
– Ну, выводили из камеры. В специальном месте давали закурить. И пока тот прикуривал, – в затылок выстрел… И все.
– И приговор не объявляли?
– Какой тут приговор… Враг народа… Ясно все…
Антон после услышанного тихонечко попятился и заскользнул за угол помещения, невидимый для Мурашева, чтобы не смущать его тем, что он тоже слышал его откровения. Да, видно, Мурашев теперь глубоко сомневался в том, что делал прежде, – справедливо ли… Должно быть, его беспокоила одна его прошлая деятельность, и он, вероятно, считавший прежде ее безупречной и необходимой, нынче испытывал где-то угрызение своей совести – совсем не случайно он стал рассказывать жуткие подробности своим подчиненным. И никто ведь не допытывался, не заставлял его делать это, – не по принуждению он заговорил так. Он и не хвастался этим, а будто говорил: вот, посудите сами, как все просто на свете. Каждый может быть на месте моем. Не зарекайтесь только.
Итак, то, о чем Антон улавливал иногда, говорилось шепотом, проскальзывало от случая к случаю, оседало само собой в памяти его, сопоставлялось. Был, он слышал ненароком, в таком заключении и сын Анны Андреевны. Наконец-то и открылся ему капитан Мурашев со своею мрачной ношей за плечами, сильно сдавший, хотя ему не было еще и сорока. Понятны были его потухший взгляд, какие-то заторможенные движения, будто он весь был по другую сторону от всех, ждавших Дня Победы, – в одном раздумье. Однако никакой жалости он у Антона не вызывал. Странно, непонятно все-таки: что же на цыпочках теперь вокруг него ходить? Всякий раз хотелось обойти стороной его, хотя (что делать?) изо дня в день ходили одними тропами и сталкивались постоянно везде и здоровались.
Непонятно, как же человек попадает в такое положение, что делает противное его разуму? Разве невозможно сразу понять, что есть неразумное, противное и не следовать тому? Ведь же знал Мурашев, что не повальные бандиты были перед ним. Малодушие и заблуждение людей подводят?
Капитан Мурашев потом перевелся куда-то. Исчез с горизонта. Тихо, словно растворился. Никто о нем не вспоминал. Никогда.
Чуть позже Кашин познакомился и с художником-искусствоведом старым Т., который еще печатал свои статьи в дореволюционном журнале «Нива», в том числе и о работах художника Сурикова; его в 1948 г. выселили из столицы во Ржев, посчитав его космополитом. На космополитов в искусстве тогда обрушились гонения. Узнал он и художника-графика Н., бывшего капитана третьего ранга, отсидевшего в лагерях на Калыме десять лет и амнистированного в 1956 г. И что убийственно поразило Кашина и Махалова: он признался им, молодым друзьям, в том, что ныне нередко пересекаются у него пути с тем доносчиком, кто наклепал на него в КГБ сволочной наклонности ради. Н., мощный физически мужчина, умер из-за прорезавшегося в его теле после аварии такси – снарядного осколка, который сидел в нем более двадцати лет.
IX
А не далее, чем в прошлую пятницу, к Антону, в отдел изобразительной продукции, заглянул очередной нетипичный посетитель – ссутулившаяся, покорная своей старости, фигура старика с палочкой примостилась на стуле у его стола в терпеливом ожидании. И когда Антон вошел к себе и было взглянул на него с неудовольствием, но, увидав сразу его молодые светлые доверчивые глаза, тотчас почувствовал, как свет мой постучал ему в сердце. Что-то екнуло в нем.
– Здравствуйте! Слушаю Вас. – Он сел за стол.
– Меня главный редактор послал к Вам. Я принес альбом фотографий крупных деятелей партии, в основном расстрелянных… Меня зовут… – Старик представился, назвав себя.
– Да, мне передали альбом. – И Антон быстро достал домашнего типа альбом из книжного шкафа и положил перед посетителем. В альбоме лежало письмо с резолюцией вверху главного редактора и подписью властной: «ответить автору, старому коммунисту, по существу». И в альбоме были постранично расклеены фотографии разных лиц. – Вот и хорошо, что вы пришли. Объяснимся с пониманием.
– Да, да. Хорошо. Мне… – Старик, видимо, был смущен им же начатым предприятием и хотел объяснить мотив, которым он руководствовался при подборе имен в такой альбом, какой он, как думал, мог бы быть у каждой советской семьи. Потому он мыслил издать его массово, но как домашний. Далее он стал пояснять, почему у него возникла такая мысль. А такую мысль подал ему покойный внук брата, хороший художник. Внук рисовал всех знаменитых людей. – Вот. – Старик вытащил из сумки и показал альбом его рисунков.
Антон взглянул и тут же сказал:
– Ну как же не знать о нем. Я знаю. – И так впервые узнал о смерти этого художника.
– Внука вызвали на встречу, – пояснил старик. – И на встрече этой приключился у него удар. Схватился он за сердце – и все… Скорая уже не успела… Вот он перед этим и надоумил меня с альбомом этим…
А я ведь и Ленина неоднократно слушал. Его выступления. Когда был в Кремле. Я в первую мировую воевал с немцами. Мы наступали в Пруссии. Я кавалеристом был, а нас поддерживали казаки. И как только те кидались в атаку, немцы бежали: очень боялись казацких пик, на которые те их поднимали. А потом они пулеметы выставили, и меня ранила пуля «дум-дум». Вот сюда, в ногу колена. Хорошо, что не в кость, а в мякоть. А в Кремле я и Луначарского видел.
– Я вижу, у Вас судьба необычная, – сказал Антон. – Вот если воспоминания Ваши о каких-то событиях, встречах записать – это бы для нас, издателей, очень подошло. (Антон вспомнил слова Янины Максимовны: «сейчас я читаю преимущественно мемуары»). Тут, – он показал на макет альбома, – трудно определить круг лиц, о которых следует рассказать читателю.