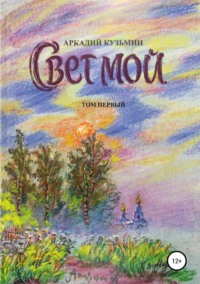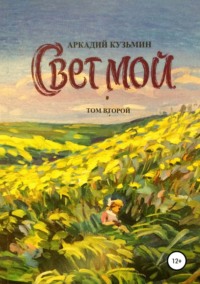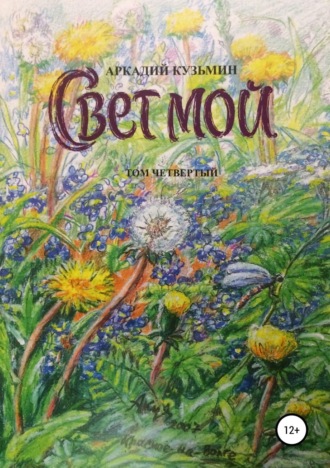
Свет мой. Том 4
Обе работницы здесь встретили Кашина в штыки, выговаривали: да, у вас столько народа сюда ездит – конечно, трудно выяснить, кто взял эти шкальные оттиски. Но не растворились же они сами по себе! Нашли накладную. Никто не расписался в ней.
– Может, по ошибке в другое издательство заслали? – засомневалась уже работница та, что была постарше. И стала проглядывать конверты, помещенные в шкафу.
– Вчера Миша был, – сказала молодая работница. – Я при нем искала – ничего не нашла.
– А это что? – старшая работница вытащила с полки серый конверт. – Написано: «Художник РСФСР». Заглянула внутрь с недоверием. – Да, это самое. И копия накладной тут. Вот видите! Этот тесный шкаф – ничего тут не разберешь, – ворчала она, сконфуженная.
И Кашин уже успокаивал расстроенных женщин:
– Не переживайте. Ведь нашлось. – И к случаю рассказал байку: – В одной типографии месяца три, наверное, не могли найти наши оригиналы, и при встрече с завпроизводством я ему сказал наугад: «Да посмотрите на своем подоконнике – у Вас там какие-то пакеты навалены». И точно: на следующий день он мне позвонил радостный: нашел оригиналы именно на подоконнике.
А потом ехал в трамвае и думал: «А нужно ли мне участвовать в таких раскопках и не поступить ли так, как бывший типографский директор (и Ангелина Ивановна говорит, что он теперь бегает бодрый и веселый) и не заняться ли только художеством? Тем более нашему директору тоже уже ничего не нужно. Никакие стимулы. Смотрит на тебя даже косо, если не враждебно оттого, что ты рыскаешь как пес сторожевой, не спишь на ходу».
ХIX
По приезде на Охту – в свое издательство – Антон Кашин увидел на столе Нилиной, дамы в темном, лощеной, независимой, еще два листа дополнительного текста, предназначенного на сверку к альбому «Дейнека», – увидел их и чуть ли не вскричал, возмущенный:
– Позвольте, Нелли Ильинична, что такое?! Вы накануне клялись и божились мне, что всю корректуру сдали Веселову… Ошиблись?
Однако она со святостью в глазах объясняла – втолковывала ему, нисколько не смущаясь, что официально это значится за Веселовым, как редактором, и что она здесь не при чем; а то, что это на столе у нее лежит, она знать ничего не хочет – она не является редактором, хотя она и просила у Веселова дать ей эти листы для автора, чтобы ему внести правку. Хотела лишь помочь…
– Ну, ведь несерьезны, Нелли Ильинична, Ваши объяснения! Тихий лепет. Наш альбом о спасении кричит.
– А что Вы обвиняете меня? – возвысила голос Нилина. – За что? Автор виноват, может быть, на пятьдесят процентов. А где главный редактор был? Сырой материал подготовил…
– Что ж, отпасовать вы все мастера великие – сказал Кашин.
– Ну, ладно вам, не спорьте, – говорил, будто сторонний наблюдатель, появившийся на глазах директор Овчаренко. – Придет корректура – и тогда посмотрим. Через полчаса у нас совет редакционный. Вы не расходитесь.
– Не могу! – Вышагнул в коридор Антон Кашин. – Трясет… Мерзость! Эти невинные ужимки, выкрутасы дамские…
– Их, всех поклонниц и поклонников, Осиновский развратил, – заметил Костя Махалов, завотделом изопродукции, заставший эту перепалку, и зыркнул по обыкновению туда-сюда зеленоватыми глазами. – Плюнь! Они эстетствуют на свой манер. Не прошибешь.
– Съездил в «Печатный», чтобы разобраться с одним завалом, – пояснил Кашин, – а наши редакторы-бары, нахомутав тут, все играют в свои растабары милые.
– Известно. Я тоже заехал в нашенскую типуху, – сообщил Махалов. – Иду в печатном и вижу: катанули откровенно грязненькую синюю краску вместо ярко-ярко-синей, какая приклеена на образце. Ну, спрашиваю у Николы, печатника: «Вы не ослепли, чай? Или ты, дружок, опять под мухой?» «Нет, – божится, – только такая краска и осталась в банке у нас…» А Ксения прекрасная еще и глазки выкатила с недоумением: «Но вы же срочно просили отпечатать…»
– Ну, они умеют начудить. Все переиначить…
– Слушай, тут-то Волин, сказочник, мне секрет открыл: оказалось, в Смольном уже побывал известный нам художник Т., жанрист, как претендент на директорское кресло. Вместо Овчаренко. Да промазал друг: он сразу попросил обеспечить его светлой квартирой. А на вопрос: как он будет директорствовать, если он некомпетентен в характере издательской работы, он самоуверенно ответил, что там же есть аппарат знающий… Мол, приду, все увижу и налажу… Это, видно, показалось верхоглядством. И Смольный-то потому оставил его, кудреватого, лишь на пост главного редактора. И лишь под напором Секретариата Союза Художников. А ведь нам теперь предстоит работать бок о бок с ним, незнайкой, – посетовал в заключение Махалов. – Не смотать ли нам удочки отсюда вовремя?
– Я тоже сегодня подумал о том же самом, – признался Кашин. – Хочется на вольные хлеба. Если руки у нас умеют что-то делать…
– И голова пока работает… Знаешь, ночью мне приснилась вдруг Черноморская Чушка – коса, где я в сорок четвертом воевал десантником… Эта Крымская коса тянется на тринадцать – пятнадцать километров. При мне был там случай исключительный: к стоявшей на приколе барже волной прибивало большую круглую рогатую противокорабельную немецкую мину. И когда матросы это увидели, враз взревели моторы на катерах, дернулись машинки с деревянного пирса – он опустел. Однако двое смельчаков – матрос и старшина, сбросив с себя верхнюю одежду, бросились в воду. А вода в ноябре в Черном море холодная. Жуть! И вот они, бултыхаясь в ней, руками отпихивали страшилищу от борта баржи, а та их прижимала к ней. Их ноги терлись о борт баржи. И они отталкивались. Хлопцы так сумели отчалить мину подальше в море. И потом ее расстреляли из противотанкового ружья. Вот что достойно восхищения. А мы-то по-мелочному тратим свои силы на какие-то удачи и еще при этом спорим и деремся.
– Да, согласен: мысли мои схожие, – сказал Кашин.
– Знаешь, и мне стало страшно, как приснилась эта Чушка… – добавил Махалов. – Страшно умереть, не сделав ничего толкового, как художник; ведь на пустое уходит жизнь, которую уберегли. И естественно, когда будешь умирать, ведь возникнет в голове вопрос к себе: что ж ты – зря прожил? Вот ругался с кем-то на работе или барахло делил с женой?
Справедливо было высказано это им.
Только Антон пока сдержанней, чем обычно, разговаривал с ним, рассорившись с ним в пятницу и находясь как бы в дружеском нерасположении к нему. Они, друзья, съехались на празднование новоселья к Пашке Кротову, тоже художнику-графику. К Кротовым приехали и друзья из Одессы. Махалов был прекрасным рассказчиком своих южных военных приключений, и здесь в застолье он, подвыпивший, настолько увлекся рассказом их, что буквально влюбил в себя семнадцатилетнюю одесситку Олесю, дочь гостей, поразив ее воображение своей бесшабашностью, удалью, что очень расходилось с восприятием обыкновенной жизни: то было много ярче, интересней существующей, реальной жизни, как расхождение порой отображение художником на полотне того, что он видит в натуре, с самой натурой, которую он порой, если не всегда, исправляет как ему удобней и целесообразней, исходя и из качества материала, который он использует.
В сущности Костя Махалов не был столь удачлив, смел и решителен, хотя перед начальством никогда не пасовал, не заискивал нисколько. Влюблялся по взаимности и в меру, с непреклонно-требовательной женой Ингой, работавшей адвокатом, не ладил, но и не разводился, был неплохим отцом способного сына. И оставался теперь верным тайной любви к сотруднице Ирине, обиженной судьбой и бывшим мужем – скандалистом, к той особенной, понимавшей хорошо книги и картины, и людей, Ирине, к которой они оба – Костя и Антон – относились, можно сказать, особенно – очень поэтично. Она выделялась среди женщин каким-то проникновенным пониманием – восприятием вещей, в том числе и их творчества.
Антон застал Костю и одесситку Олесю на балконе нового дома уже целующимися. Чему видевшие это парни-одесситы немало удивлялись, беспомощные:
– Надо ж, как он, отец, ловко покорил бедняжку. – И явно завидовали его такому ковбойству.
Антон ясно видел: Костя перебрал вина, в ударе и подставил девчонку, не осознавая тут ничего. У него же точно отказали тормоза в сознании, и следовало дать ему хорошую взбучку, чтобы привести его в надлежащие чувства, усмирить его бесшабашность и расхлябанность – именно их, сейчас полностью ведомых им. И Антон, жалеючи юную девчонку, почти насильно выволок Костю с балкона и тут же вывел его на улицу, поймал такси и довез его до дома через весь город, ругая его во все время езды. Его, своего старшего друга, способного на предательство по отношению к Ирине! И говорил – грозил ему, что он еще поговорит с ним всерьез, когда тот проспится и очухается.
Антон почему-то считал вправе это сделать.
Но теперь при встрече друзей спустя два дня у них не было ни разговора, ни никакой реакции Кости на происшедшее, будто не касалось его или было в обычном порядке вещей.
– Приплыла ко мне одна дама, принесшая эстампы, – сообщил Махалов с какой-то виноватостью. – Такая желтая, как початок кукурузный, без глаз и талии. Говорю ей, что приняты два Ваших эстампа из четырех. Будем печатать. Она сделала тупые акварели на сюжет Золушки и «Конька-Горбунка». Говорю ей: художественный совет берет эту и эту. «А что же этот – не подошел?» – спрашивает она свысока. Сказал ей как можно мягче, натуральнее: «А тут есть совпадение в художественном воплощении – книжка о Золушке уже выходила в свет, и там лошади, что бегут цугом, отрезаны». «Какое еще совпадение?!» – возмущается она. – «Ну, если хотите, придите в следующий раз – я покажу Вам». И ведь она припыхтела снова ко мне. Открыл я страницу и показываю ей иллюстрацию такую же другого художника. Она неподдельно: «Знаете, я впервые эту книжку вижу…» – «Да, и поэтому не будем повторяться, чтобы потом не было неприятностей». «Какие ж неприятности? – удивляется она. – Ну, это у вас, художников, нельзя, а у нас, архитекторов, проще – все можно». «Ну, да – вставил я тотчас же шпильку, – у вас могут быть блоки в строительстве – и потому получается все одинаковые дома». Делает акварели из рук вон плохо, но ее проталкивает знакомый редактор – и дело идет.
– Слушай, ведь вечером показ встречи наших с нашими из Израиля, – сказал миролюбиво, улыбаясь, как бы налаживая прежний контакт, Костя Махалов.
– Ой! Хорошо, что напомнил… – Антон всполошился. – Телик наш благополучно сгас… Нужно вызвать мастера. Сейчас позвоню… Но ведь из-за этого дома просидишь полдня в его ожидании. Беда!
– Лучше Грише Птушкину позвонить, – оживился Костя. – У него же, выпускника Штиглицы, в друзьях – куча мастеров отличнейших… Будет-то сподручней… Его же друзья-молодцы! – «Янтарную комнату» в городе Пушкина заново воссоздают по крупицам. Вот ювелирная работа! После-то «культурного» нашествия сынков немецких… Знаешь, я бы не смог… Ужасно!..
– Да, я виделся с ними тоже, – сказал Антон торопливо. – Соглашусь с тобой. Попробую…
И стало им, участникам войны, по прежнему быть понятными друг другу в реальностях дня нынешнего.
Они разговаривали, присев на диван, стоявший в коридоре.
И шел затем редакционный совет, на котором обсуждались перспективные заявки с предложениями предстоящих изданий. Их зачитывала литредактор. Предлагались рукописи с рассказом о художниках области, о художнике Мооре, о скульптуре, о кружевах, эскизы открыток под палешан.
– О кружевах искусствоведом написано? – спросил директор Овчаренко.
– Нет, написала журналистка, – сказала редактор Нилина.
– Не пойдет – не утвердит секретариат.
– Открытки любопытные, могут быть, – сказал искушенный в искусстве Илья Глебович. – «Орешки все грызет» – на Пушкинский сюжет. Только к чему бы это присобачить – подумать надо.
– А кто автор? – мрачно спросил Осиновский. – Профессиональный художник?
– Ко мне пришла опять художница, – сказал безулыбчивый редактор Широков, художник, сверкнув вставными золотыми зубами, – и вот принесла эти открытки. Я говорю, что они не пойдут, а она просила показать на совете – не поверила мне.
Однако не сразу утих взрыв веселья у всех: на предыдущем совете только и были открытки от художниц.
– Она в графическом комбинате – здесь – работает.
– Я хочу сказать одно: профессиональные художники тоже умеют так делать, – с юмором заметил Илья Глебович. – Как один грузин объяснял, что такое айва. «Апельсин видел, знаешь? Лимон видел, знаешь? Ну так айва совсем непохоже». Так и у нас.
По поводу большинства зачитываемых заявок директор повторял, что нужно запросить секретариат Союза Художников, что он думает, как считает, на что некоторые литредакторы, как Нилина, ухмылялись. Протестовал Осиновский.
И дальше гуляли реплики:
– Ну, хорошо, решим так вопрос: дать на согласование?
– Да, дать на согласование в секретариат.
– Мочалов был хороший гравер, не помню, издавалось ли у нас что о нем.
– Альбом. Двеннадцать листов.
– А монографии не было?
– Мочалов – это такая фигура крупная и материал по нему хороший.
– Ну, что: дать в план?
– В перспективный.
– Форфориста предлагают. Конковского.
– И секретариат будет за него.
– Три авторских листа. Это – семьдесят иллюстраций.
– Все за?
– За, за.
– Нам предложили это на секретариате.
– Не предложили, а приказали включить.
– Сейчас Русский музей готовит колоссальную Потоцкинскую выставку.
– Давайте, примем одну заявку, а к другой вернемся на следующий год.
– А кто автор заявки?
– Бутикова – автор. «Исаакиевский собор».
– Архитектурные памятники района.
– Которая будет определять… определенные…
Литредактор прочла очередную заявку.
Нилина предположила:
– Монументалист, наверное? Долбилкин… Странно, однако.
– Да тут перечислены его работы. «Триумф революции» и т.д. «Является художником с ярко выраженной индивидуальностью. Хочу написать о нем простым и доходчивым языком».
По прочтении этого все члены редакционного совета рассмеялись. Посыпались реплики, предложения.
– Послать в секретариат.
– Может, там Долбилкин где-нибудь и проскочит…
– Неужели только от секретариата заявка? Надо согласовать.
– Да, надо согласовать. Может, и одобрят: нашли сами художника.
– Может, он такой скромный, что его никто не знает, а он – талантище.
– Издательству будет принадлежать честь открыть имя этого художника.
– Да, их тыщи, и надо открывать.
– Нет, послать запрос – поступила заявка такая, каково их мнение?
Дальше говорили:
– В таком виде заявка не тянет на рассмотрение.
– Ну, все ясно.
– Тут уже остается одна сторона: художественность, а современность исчезает.
– Издательство ничего не потеряет, если от этой заявки откажемся.
– Но у нас больше нет заявок. Будем на бобах. Надо принять.
– Но чтобы у нас не получилось много.
Было и то, что малость царапнулись друг с другом – отголоски войны межредакторской.
Потом еще царапнулись, когда плановичка Маша стала говорить с другой стороны об этом – что объемы предлагаемых изданий липовые – ей трудно все обсчитать, чтобы потом выполнялись (чтобы плановая калькуляция соответствовала фактической).
По просьбе Григория Птушкина пришедший вечером к Кашиным в коммуналку услужливо-деловитый мастеровой Михаил ловко отладил телевизионную картинку. За что спросил 20 рублей. И вкусно отужинал у них. С приятным разговором. Только на следующий вечер он странным образом вновь появился перед ними. Торопливо, словно охмуряя, проговорил Антону, открывшему ему входную дверь:
– Извините, Антон, я очень хотел бы сейчас посоветоваться… Крайне нужно мне… Голос у него был просяще-жалобливый…
И Антон без лишних слов впустил его в комнату. Он не мог сразу же отказать в какой-то просьбе знакомому Гриши, мастеру, только что выручившему их без промедления. И не станет же он сейчас препираться в чем-то с ним прямо в коридоре в присутствии любопытствующих соседок.
– Вижу, вижу, здравствуйте! – войдя в комнату и увидав в углу работавший телевизор, заговорил нежданный гость и поздоровался с Любой, смотревшей шедшую трансляцию. – Вижу: дышит ваш больной. Я рад!
– Со скрипом все-таки, – сказал Антон натужно, не зная, что нужно тому и зачем то пришел-причапал, и злясь на себя за явную, должно быть (уже было видно) опрометчивость и непредусмотрительность в чем-то ненужном, сомнительном.
– Что ж хотите… – согласился Михаил. – Можно сомневаться… – Старый лампочник. Просится на свалку.
– Извиняемся, у нас не прибрано, – начала Люба говорить, краснея.
– Потому, что я работаю – готовлю кальки и рабочие оригиналы по эскизу режу и стригу бумагу, клею, – пояснил Антон, так и держа в руке рейсфедер, с которым и вышел к позвонившему в дверь визитеру.
– О-о, я лишь маленько поговорю… Дайте мне какие-нибудь тапочки, чтобы не наследить, – попросил Михаил. – Я хотел только спросить, как именно Вы, Антон, все понимаете в образовании, какое нужно получить культурному человеку.
– О чем поговорить? И что я понимаю? Не настолько сведущ…
– О сыне, его воспитании и тому подобном.
– А что, извините, я могу сказать? У нас нет пока детей. Так что и опыта нет. Поделиться мне нечем, увы, Михаил.
– Но у Вас, наверное, могут быть верные наблюдения. Я подумал… Потому зашел… Знаете, мы семьей провожали дружка на вокзале. И благо – здесь рядом брат живет (а мы ведь на Васильевском), зашли к нему, да брат с женой и дочкой ушли куда-то. И вот я жену и сынишку отправил сейчас домой, а сам решил зайти к вам, благо вы рядом тоже…
– Но мне работать нужно, Миша. Работа срочная… заказная…
– Так Вы работайте – ничего-ничего. Я поговорю. Я Вам не помешаю… – Он сел на подставленный Любой стул. Снял с себя куртку. – Я-то хотел вот сына восьмилетнего с кем-нибудь познакомить, чтобы тот увидел, как трудно достается это творчество. Я говорю ему, что иногда нужно сделать сто вариантов-эскизов художнику, чтобы что-нибудь да вышло толковое. Правильно я говорю?
– Да, верно, – подтвердил Антон невесело: свалился же визитер на голову!
И началась у гостя нелепая тянучка-пытка с разговором:
– Вы в прошлый раз подарили мне открытку «С новым годом!» Я сказал сыну, что это дед мороз прислал. А сейчас у Вас нет чего-нибудь еще такого, интересного?
– Нисколько не держу запас, – уже раздражался Антон оттого, что его отвлекал от дела по какой-то безделице некий сытый кругленький и активно не понимающий его и неуязвимый человек. Его голос доходил до Антона как из какой-то утробы.
– А Птушкин сказал, что у Вас тьма пейзажей, и Вы их раздариваете. И я вижу: вся стена ими увешана…
– Я сейчас никому ничего не дарю. – Отрезал Антон. – Только бы не мешали мне, молю…
– Но вот Вам-то жена, наверное, не мешает, – поторопился сказать Миша. – Главное, когда в семье согласие.
– Какое? Объясните…
– Ну, когда работаете, жена не вытирает пыль, не суетится под ногами.
– Ой, тогда ни-ни, – сказала Люба согласно. – Всегда.
– Вот и хорошо, что понимаете.
– А у Вас – что: без понимания? – сыронизировал Антон.
– Есть такое, – признался Миша. – Я-то женился перестарком, считайте, – в тридцать один год. Прежде у меня невеста была да сплыла: не дождалась меня из армии. Пять лет я отбухал на службе. Ведь женщине свое время подай. Когда созрела, как ягодка, ей не дотерпится.
Антон на такое выражение пожал плечами.
– Мы с ней сына воспитываем разно, – пояснил Миша. – Не можем никак договориться между собой, споримся…
– Потому и меня пытаете?
– У жены же это все от пупка идет, от пупка. Живет только сегодняшним днем, о завтрашнем дне не думает – социализм так приучил нас; у нас, мужчин, это иначе: мы заглядываем в завтрашний день – строим планы. Я хочу сказать, и Вы наверное, можете то подтвердить, видите, что я не гений, а самая заурядная личность…
– Ладно, заурядная личность, садитесь с нами за стол – время ужина, ешьте поскорей, не отвлекайтесь, – подгонял, как мог Антон Михаила, нежеланного красноречивого визитера. – А мне работать надо. Я не успеваю.
– Ведь сейчас музыкальные школы, – перескочил за едой Михаил, поедая макароны, – они же останавливаются на полпути в развитии ребенка, а дальше что? Куда брести? Не знаю, что с ним, сыном, будет? А искусство ему вроде бы нравится больше, чем что-то другое. Чем техника. Взять хотя бы транспорт. Хотя машины ведь незаменимая вещь. Необходимость! Сколько раз я убеждался в этом. Вы думаете: прокрутите диск телефона и сразу подрулит к вам такси? Не тут-то было… Раз в выходной день мы долго не могли уехать – битый час добирались до вокзала. Шоферы в шахматы играли. Когда они диспетчера боятся, а когда он – их. Тогда мы на поезд опоздали. Билеты пропали. А был бы я на колесах – минутки езды и вот – на месте. Порядок!
Антон хоть и обладал, как он считал, некоторым даром юмора и порой подтрунивал над собой, как все люди с аналитическим складом ума, лишь подумал: «И чем таким я привлекаю людей, что все они хотят посоветоваться со мной в чем-то. Вчера вон сорокапятилетняя дама изливала мне душу насчет восемнадцатилетней своей дочери, сегодня – он. Упрям, должно, как дуб. Закоренел, покрылся изнутри ржавчиной, которая и не сразу заметна, и пилит, наверное, и жену, и сына. Где же сын его послушается…»
Но, и покончив с едой, гость не собирался уходить, исходил весь словами. Заявил уверенно:
– Я еще немножко посижу у вас. Несколько минуток. И пойду. Он, сидя на стуле, то поскрипывал им, то причмокивал – чадил, то комментировал события, происходящие на экране (точь-в-точь, как комментировал обычно молодой сосед за стенкой своей старой жене): «Они, видите ли, думают, что уголовники так примитивно устроены, если уголовники, – о-о, как они ошибаются!»
Был уже одиннадцатый час вечера. Любе нужно было укладываться спать, а посетитель все долдонил. Он был изначально заряжен на говорильню, старался вытряхнуться словесно; он вовсе и не думал-то плакаться о сыне, а был в каком-то своеобразном кураже, будто в наркотическом опьянении, хотя признаков такого опьянения в нем не наблюдалось.
– Много их, детей, тоже плохо, – сказал он к чему-то. – Количество вредит качеству и тут.
– Абсурд! – парировал Антон сердито. – Человек – не вещь, что лежит в шкатулке – этакое совершенство. Ребенок пошел в садик – уже нахватался чужих познаний.
– Да?! – согласился Михаил. – Может быть. Может быть. Мне бы стоило позвонить Вам в сезон, когда я был на колесах, и мы закатились бы куда-нибудь…
«Ишь как выразился собственник, – мелькнуло в сознании Антона. – И такие имеют, кажется, все в быту. И хотят еще чего-то. Побольше. Явиться в друзья к тем, кто обратился за мелкой услугой частным образом и протанцевать, распетушившись, по-тетериному. Мелкое потребительство затмило его разум».
Антон не улавливал ход его мыслей.
– Если бы машину я купил за шестимесячную зарплату, тогда бы поставил одним колесом на тротуар, вторым на проезжую, – пусть тот бок гниет; она послужила бы мне четыре года, потом бы новую купил. И гаража не нужно. А если я целые годы копил на нее сбережения, то, конечно, другой разговор. – И лицо Михаила ожесточилось. По сути он говорил разумно и правильно, но как-то с изъянцем. – Теперь с этим нашим переездом. О, как я погорел, знаете… Где-то я предвидел еще заранее, шевелилось во мне неудовольствие, теперь открылось… О, как бывает…
Он не в меру разошелся, повысил голос почти на крик (вероятно, было слышно и за тремя дверьми, а к этому здесь, в квартире, уже не привыкли), и Кашины ужасались тому, что пошлость в благообразном облике сидела перед ними за столом и распиналась так, упиваясь собственным красноречием – потому Михаил и выступал с таким подъемом – все более взвинчиваясь, хотя причин к тому не было никаких.
– Миша, все: пора! – скомандовал Антон. – Одевайтесь!
Миша с явной неохотой поднялся со стула и успел еще спросить:
– А у Вас, Антон, нигде знакомых нет насчет гаража?
– По этой части – ни-ни! Я не спец. Отсталый…
– Я – на всякий случай… Так как обратиться не к кому. И вот вытаскиваю в памяти знакомых, к кому бы пойти… Авось…
Антон, наконец-то с облегчением открыл ему дверь, и тот растворился в темноте, царившей на лестничных маршах.
Как будто и не было этого явления. Был только мираж.
– Ну, торгаш! У меня было столь сильное желание кокнуть его чем-то, что я удивляюсь себе, что не кокнула, сдержалась, – сказала возбужденная Люба, – до того он был омерзителен, противен мне. Было бы, как в рассказе Чехова: «и присяжные его оправдали…»
– Я тоже хотел его стукнуть: чесались руки, – признался Антон. – Как все предусмотрительно велось в высшем свете раньше. «Мы сегодня не принимаем!» И все тут. А мы – хилая интеллигенция ротозействуем, позволяем ездить на шее вот таким проходимцам. А телик еще моргает, придуривается непослушно: рабочие ручки таким сделали…