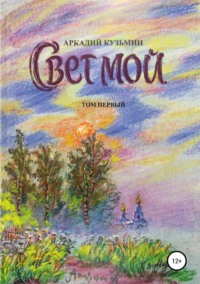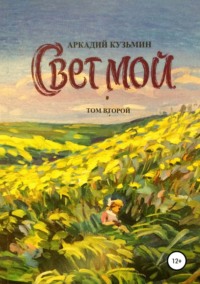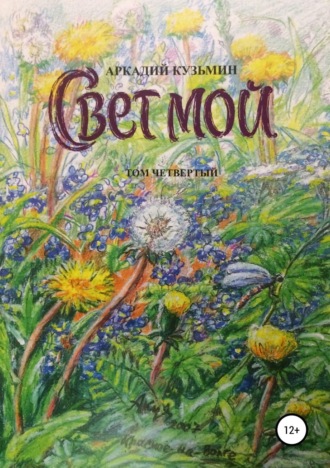
Свет мой. Том 4
Вот такие же изгои делали революцию, и она – де поэтому страдает теперь. Она одержима была сверхэмоциями. В этом проявляла свое крайнее безумие, не считаясь ни с какой логикой. И ее было не оспорить ни в чем. Только отчего же порой от нее исходила такая ненависть не только к нему самому, но и ко всему тому, что он делал – такая неприязнь? Даже оторопь брала. И это была не игра, а какое-то необъяснимое наваждение.
Она ставила не раз под сомнение и его способность что-нибудь толковое написать понятно. Придиралась к его неразговорчивости.
Но что, действительно, ему давало его беспрерывное занятие творчеством? Наслаждение? Дань тщеславию? Деньги? Признание всеобщее? Отнюдь. Что касается денег, то их у него и в помине не было, они нужны были лишь на краски, на бумагу, на багет. А признание настоящее, право, и быть не могло нынче, когда давно перло наружу, напоказ, хвастаясь, все новомодное, непонятное, за чем не угнаться честным образом правде с вопросом: зачем? Просто все складывалось у него так, как складывалось; он, как художник, видел все явления и природу иначе, чем другие, как-то вовсе по-другому, казалось ему, понимал все иначе, чем другие, и показывал это в своих работах. И все подтверждали это с искренностью, с чувством благодарили. И ему доставляло удовольствие дарить другим это ощущение тем, кто покупал его работы за бесценок почти. Это не были музейные экспонаты, отнюдь; работы его были, по отзывам, теплы, светлы, позитивны, не агрессивны, красочны, не придуманные, не сделанные на показ. Это держало его на плаву. Приободряло.
XVI
Раз Антон оказался в Зеленогорске свидетелем будто разыгранной сцены, шокирующей здравомыслие.
Тусклый привокзальный ресторан уже пустовал – был поздний холодно-неуютный осенний вечер, когда сюда деловито вкатилась круглая, как грибок, черная старуха с цепкими птичьими глазами и тотчас подсела, ничуть не раздумывая, к миловидной плотной русой, простенько одетой девушке, приехавшей, верно, недавней электричкой из Ленинграда (похоже, там работала и училась) и сидевшей теперь здесь в ожидании яичницы совсем одиноко, ровно перст, за чтением какого-то учебника. Старуха поставила на соседний стул свою черную длинную кошелку, быстрым, заученным движением развязала темный платок, сняла его с посеребренной головы и кинула поверх кошелки. Отдышась чуть, прошамкала губами. И тут вдруг поднялся один посетитель, заметивший ее, тихо пивший с товарищем за столиком в углу, – высокий и нескладный немолодой плешивый мужчина, в сером старомодном пиджаке с поясом и с вставными плечами (болтался на нем, худом, что на палке), – и молча, но целеустремленно, хоть и покачиваясь слегка, приблизился к ней. На мгновение он над ней остановился и сначала заглянул ей в лицо с этой стороны, прикидывая что-то для себя, а потом зашел к ней с тыльной стороны; подставил себе стул поближе и, глядя на нее, медленно – чтобы, вероятно, не упасть или не сесть мимо – стал опускаться на сиденье. Однако проворная старуха – еще не успел он опуститься полностью – испуганно вскочила с места своего; подхватила опять кошелку с платком и краснея неимоверно, раздувая, точно меха, пухлые дряблые, дрожащие от негодования щеки, кинулась прочь от него – за спасительный стул и стулья, почти крича требовательно, как бы призывая в помощь свидетелей насилия над ней, ее личностью:
– Уйдите от меня! Что Вам надо?! Вы пьяны… Оставьте же меня!
Было видно, что это уже заучено у ней, заучено с самых давних пор – и это удивительное под старость озлобление к нему, и это подчеркнуто холодное обращение на «Вы»: так не однажды, должно быть, она уже кидала ему в лицо, ограждая себя от его назойливых приставаний. А он, чудной, видно было, все пытался еще поговорить о чем-то с нею, что-то выяснить у нее до конца. До самого победного.
Она была некрасива, с широкими бедрами, с беззубым уже ртом, с красными, дергающимися руками. Словом, никак не королева, нет. Но, несмотря на то, что она столь решительно просила оставить ее в покое, он ни за что не отстал от нее – встав, двинулся ей навстречу обратным путем, то есть вокруг стола. Тогда она снова шмыгнула на облюбованное место; загородилась стулом, положила свои вещи на него:
– Да оставьте ж, наконец, меня! Что вы пристаете всегда ко мне?!
Но поспел-таки и преследовать тоже. Перегнувшись теперь через стол, но что-то сказал ей в ответ – что-то, видать, негожее, отчего сидящая рядом девушка густо покраснела и еще сильней-сосредоточенней уткнулась в свою книжку, словно ничего не слышала и не видела. Тут же позванный сотрапезником, он не замедлил вернуться обратно и, послушно-картинно сев подле, негодуя и жестикулируя на негодную старуху, стал что-то рассказывать ему, а тот, большеголовый и вроде б умноглазый такой, склонившись к нему близко и изредка прощупывая ее взглядом, с величайшим интересом слушал его. Слушал, не мигая почти.
Как будто они оба со старухой этой только что разыграли знакомую для всех, старую-престарую оперетту или, совсем забываясь от лет своих, по инерции продолжали друг с другом какую-то прежнюю недостойную игру всякий раз, как неожиданно встречались где-нибудь здесь, в небольшом курортном городке, где старожили друг друга, особенно в мертвый сезон.
Увиденное опечалило Антона. Ему подумалось: «Да, негоже нам превращаться в истых ненавистников близких».
В здешнем же ночном профилактории мало-мальски начальствующие деятели искусства, расслабляясь и забавляясь, уже осознанно разыгрывали непристойные мини-спектакли, услаждая тем самих себя. Чем «доставали» и других.
Ввечеру в небольшом зале отдыха, работал телевизор, демонстрировался фильм о трудных детях. И тут-то опять вошел сюда, покачиваясь, блуждавший неприкаянно всклокоченный пятидесятилетний Ильичев, поэт и, главное, главный редактор краевого издательства, словом, хозяйчик. Он был в неизменном синем пластиковым спортивным костюме и в матерчатых тапочках, которые он при очередном буянстве, как и в прошлом году, напоказ выбрасывал из окна. Этот человек в окружении подчиненных женщин-редакторов, корректоров и техредов – вел себя как подгулявший купчик. Ничего интеллигентного в нем не просматривалось. Это, видно, ему очень нравилось; он постоянно как бы бредил, неся всякую чепуху. Но вот был ли это настоящий бред у него или своеобразная игра-забава, определить было трудно. Потому как он пронзительно-пристально словно приглядывался к тому, как окружающие реагировали на его выходки. Ведь он и на службе, бывало, куражился подобным образом, заговариваясь: «Ой, сердце болит!.. Дайте валидол…»
Он с ходу, плюхнувшись в кресло, комментировал фильм:
– Вот и у меня детки такие! – Чем вызвал смех у сидящих зрительниц. – Ох, как бы поудобней устроиться! – И положил ноги на впереди стоящий стул. И попросил медсестру Таню: – Доктор, дайте мне колбасы.
– Доктор, уложите меня спать, – продолжал он. – Ну, уложите же меня спать. Разденьте меня, пожалуйста.
Потом читал стихи о любви Лермонтова, Щипачева. Потом трижды вскакивал со стула и хватал за полы халата медсестру Таню, говоря:
– Вот если б я твоим мужем был!
Она же трижды вставала со своего места и строго, как избалованному ребенку, говорила ему:
– Оставьте меня в покое! Перестаньте! Сядьте!
Тогда он подсаживался к машинистке Марьиной, говорящей громко, и обнимал ее, говоря какие-то гадости. Потом толкнул спящего на стуле в сидящем положении Володина, с кем выпивал только что:
– Володин, пойдем!
Потом трижды уходил из зала и трижды снова появлялся в нем. На устах его были:
– Женщина, которая укусила его за палец.
Или:
– Откусила ему палец. Баба. Поганая девка.
За обедом Р. призналась, что ей страшно и что она не знает, что делать и как отвязаться от его приставаний. Что если и на работе эта игра будет продолжаться. Она думала, что он отстанет, когда предложил прогулку, или она удерет, когда его, пьяного, внимание переключится на что-то другое. А то ведь не дают проходу женщинам. Но он ей вдруг сказал, что он, что же, так и не получил ничего?
Она сказала:
– А эти белые березы? А это чистое вечернее небо? А эта луна крупная, круглая? – И вижу по его пронзительным глазам, что он все играет. А когда повернулась назад, сказал, что в эту сторону сейчас пойдем по малой нужде.
Я сочла это оскорблением для себя и ответила:
– Ну, если так, то лучше бы сказали, что пойдем по ветру.
– А в эту сторону – по большой нужде, – досказал он.
Оказывается, в эту сторону пойти – это выпить в шайбе – круглом распивочном магазинчике, а пойти в другую сторону – взять пол-литра.
– А он и не пьяный, когда был помоложе, проходу им не давал – каждую норовил остановить и облапать.
Медсестра Таня с состраданием спросила, когда его из столовой под руки вывели в туалет: «Что с ним? Больной?»
– Да, заболел, заболел, – отвечали ей.
– А что?
– Вот тут болит. – Показывал подвыпивший на сердце, а по хитросмеющимся глазам его и других товарищей она видела, что что-то не то, и глядела на них с подозрением.
– Но вы хоть зайдите, приглядите за ним, – попросила она, поскольку была дежурной.
– Посмотрим, посмотрим, – серьезно говорил красавец Володин, загоняя шар точно в лузу.
Спустя минут десять она снова подошла к играющим и умоляла посмотреть за больным.
Пошли и вдвоем повели его наверх в комнату. Почти ирреальный быт.
XVII
Все-таки столь причудливо сплетение чьих-то людских судеб. Круговорот!
– Нет, а мне ездить по утрам в автобусе – в удовольствие, – бодрился стоявший в его салоне здоровяк на вид; – так, глядишь, знакомых встретишь и наговоришься.
Когда же новый поток пассажиров втиснулся в салон, уплотняясь, и Антон Кашин, невольно чертыхнувшись в душе, оглянулся на того, кто сзади крепко напирал на него широкой грудью, то узнал в нем Осиновского, главного, считай, художника их издательства. Узнал, однако, с неудовольствием.
– Вы?! – больше удивлен был Осиновский их нежеланной встречей. Он уже даже не здоровался с Кашиным, тупо не отвечал на его приветствия, уязвленный, вероятно, его независимым поведением.
– Да, как видите. В целости… Здравствуйте! – Кашин привычно опять поздоровался с ним. – Я могу и еще продвинуться, если мешаю вам…
– Да уж стойте на месте, коли стоите! Не егозите… – С готовым раздражением проговорил Осиновский. С раздражением. И вкладывая в свои слова какой-то тайный смысл. И опять же не ответил на его приветствие, продолжая играть в непонятный каприз или в какую-то комедию.
Что было уже чересчур. Ненормально.
Да, странное чувство неприятия, а не то, что неопытного новичка при сем, испытывал Кашин при встречах с такими себялюбцами, трафаретно ведущими себя в обществе; ему было просто не о чем разговаривать с ними – не находилось общих тем для этого или он попросту не умел того – поддержать какое-то несущественное говорение. Эти люди мнили себя хоть куда зрелыми эстетами, знатоками авангарда во всем; они, как правило, любили острые (вроде бы) эстетствующие в своем кругу разговоры или желание передернуть по-смешному чьи-нибудь слова, или рассказать со смаком свежий анекдотец, или посмеяться над каким-нибудь общим знакомым, или даже посплетничать о ком-нибудь, – они были людьми особого сорта, и этим они жили, дорожили морально, щеголяя, напоказ.
Самовозвышение Романа Осиновского началось с того, что иные книги и альбомы, которые он художественно оформлял, печатались по договорам в иностранных типографиях, отлично оснащенных полиграфически и, значит, воспроизводящих все публикации в художественных изданиях полней, ракурсней, роскошней. За счет чего заметно улучшилось качество выпускаемых книг. И такой неслучайный успех вскружил голову не только Осиновскому, но и другим удачливым редакторам его отдела: они в собственных глазах казались себе незаменимыми мастерами. И уж оригинальничали в своей работе, как хотели, – то не возбранялось. Отнюдь!
Оригинал Осиновский конструировал книгу, как он возвышенно определил свое художественное ее редактирование и макетирование. Благая цель, конечно: собственными руками изготовить нечто видимое – нужное для людей – то, что можно с радостью увидеть, пощупать и полистать! Однако он, не обладая мастерством художника-практика, а будучи дилетантом-оформителем, не чувствовал шаткости своих позиций, как законодателя моды, и шел напролом, считая, что все ему позволено. Был же человеком с тяжелым, вспыльчивым характером. А потому со временем стал трудноуживчивым с теми работниками в коллективе издательства, кто не соглашался с ним в чем-то, игнорировал его мнение. Он считал себя главным художником (вне должности), хотя занимался той же средней квалификации оформительской работой с книгами, что его сотрудники в отделе. Он фактически ломился в открытую дверь, желая, чтобы все решительно признавали это особенным, воздавали ему хвалу. Хоть немного. Он, казалось, задался целью поразить всех своей необыкновенной способностью сказать новое слово в книжном оформлении, как и даже в том, если придет он к мнению, что Земля круглая, или установит нечаянно, что на улице льется косой дождь. Дилетантство же его и заключалось в том, чтобы заставить всех взглянуть на то или иное произведение искусства или иной объект его глазами, так как он считал, что только он способен тоньше других почувствовать дух вещи с точки зрения ее товарности; то теперь уже было модно, т.е. как и обыграть и подать безделушку, – фрагментарно или в ракурсе.
Все это, выходило, он понимал особенно тонко, и уж от него зависело, что тот, кто не склонялся к такому мнению и не стоял перед ним с раскрытым от восхищения ртом, тот попадал в его противники, которые в силу своей бездарности мешали ему, одаренному. С такими людьми Осиновский боролся своеобразно, шумно, бурля, взрываясь, сверкая красными с обводками глазами, как будто ему назло не давали стать вторым Рафаэлем.
Но мало того, что Осиновский так примитивно настраивал и дисциплинировал своих отдельческих художников-редакторов, так он еще объявлял и производственников никуда не годными неучами. И когда однажды получил отпор от Кашина, то, обозлившись на него, даже перестал с ним и здороваться, исключил его из орбиты своего внимания.
Антон Кашин по натуре своей не был злоблив, мстителен, шумлив или скрытен; он, напротив, приветливый, в меру стеснительный, но твердый в решениях своих, воспринимал и рабочие отношения тоже как товарищеские, дружеские, простые и ясные, как самые человечные отношения – какими они и должны быть на практике.
Кашин сам успешно художничал, сотрудничая с издательствами, вел сложный производственный сектор и даже редактировал тексты, умел корректировать их; он мог рассчитывать без калькулятора затратную стоимость производства любого издания для того, чтобы избежать убытков; он все делал без особых на то усилий и рассуждений, как бы между прочим. Тогда как Осиновский занимался лишь оформлением книги, т.е. приведением рукописи и рисунков в надлежащий формат книжный и форму – область, в которой он царствовал, за что и мог получить очередной диплом. И за что прощалась его петушиная заносчивость.
С выпуском изданий, печатавшихся за границей, более-менее везло; разве что иногда придирался горлит – цензоры, например, нашли, что в фотографиях сокровищ Эрмитажа недопустимо выпячивались атрибуты царской власти да и виден был крест сверху колонны… Требовалось разрешение из Смольного… Основная же масса издательских книг, каталогов, плакатов, открыток печаталась в шести-семи типографиях Ленинграда и что-то в Москве, в Риге и других городах. Приходилось все жестко контролировать. Выпускающие, молодые мамы, следили за прохождением в производстве и за качеством книг. Однако Кашин постоянно объезжал все типографии и лично разбирал всякие случавшиеся нестыковки. Потому он спокойно-иронично относился к вывертам-претензиям Осиновского. Как, впрочем, и к чиновничьим запросам, приходящим из Москвы, о том, как, например, издательство сберегает бумагу – с резолюцией шефа: «Кашину, ответить!» Он сразу же кидал такой запрос в корзинку. Как досадное недоразумение. А потом приходил и повторный запрос…
– Вот так мы и выжили, – говорила женщина, шедшая по тротуару впереди Кашина. – Тогда, в блокаду, я на Ижоре была, и раз очень сильно испугалась грозы, больше, чем бомбежки и обстрелов: к ним уже приноровились мы…
ХVIII
Антон Кашин, приехав на «Печатный двор», узнал, что его работники вчера похоронили хорошего печатника. Умер он от разрыва сердечных сосудов. В пятьдесят семь лет. Проработал в типографии двадцать шесть лет.
Кашин спросил у производственников, не лучше ли работается им теперь – после слияния «Печатного двора» с проектными институтами. Ему четко сказали, что стало хуже. Прежний их директор, став генеральным, даже не выхлопотал для них никакой прибавки к низкой зарплате; так что они не уверены, что новый директор добьется какого-то повышения ее. В институтах же служащие получают большую оплату, что обидно. Они – белоручки: однажды в белых перчатках работали в переплетном цехе, когда их прислали сюда в помощь. И ничего они не знают и не умеют, да еще и нажаловались в райком партии: дескать, никто не имел права послать их сюда чернорабочими. Зато премии-то получать от нас – пожалуйста! – охочи до нее. Зарплаты у них побольше, и оттого бухгалтерия делит пропорционально прогрессивку типографскую за ширпотреб. А попросить их, проектировщиков, спроектировать что-то нужное для нас – тоже нельзя; у них знаете, темы в текущий план уже заложены, нужно закончить их в течение этих двух лет.
Кашин хотел выяснить точно, в какое же время «Печатный двор» сможет отпечатать красочный альбом «Дейнека», 42 печатных листа. Вопрос был сложный, сложный потому, что до конца года оставался всего месяц, а между прочим во второй корректуре автор текста о художнике вдруг заметил промашку – не было сносок к цитатам в пяти листах и не были приведены источники, на которые должны быть ссылки. Даже больше того: при пристальном прочтении текста он (автор) обнаружил, что были изъяты некоторые старые, а во вступительной статье именно на эти материалы даются ссылки, и что, следовательно, в этих листах должна быть выкидка ненужного и добавление нового, а значит, переверстка всего текста!
Все эти изъяны автор открыл несомненно под влиянием опытной заведующей редакционным отделом Нилиной. После ухода из издательства главного редактора, которого она не жаловала в своей симпатии, она теперь решила мелко (хотя сама была крупной женщиной) мстить ему, поскольку тот значился в этом альбоме редактором, а она просматривала эту его работу лишь добровольно и увидела в ней такие непорядки.
Кашин прикинул: если вернуть из типографии в издательство нужные для проверки листы на третью корректуру, то работа над ними вновь задержится на неопределенный срок. К тому же только попади они снова в руки автора, – тот вкупе с Нилиной наделает черт знает что; то же самое будет, если дождаться третьей сверки и тогда вносить правку уже в третью – на четвертую корректуру. Так что лучше было бы ее внести непосредственно в типографии немедленно, пока не тиснута выправленная корректура, – внести самые минимальные исправления, необходимые, например, ссылки и перечень источников. Но для того, чтобы это желание произнести вслух тут в типографии, перед замзавом производства, требовалось большое мужество; нужно, чтобы язык повернулся, дабы предложить такое решение вопроса в свою пользу на ускорение выпуска альбома.
В таком деле важно и личное отношение к посетителю-просителю.
Кашин начал выяснять следующее: сможет ли «Печатный двор» отпечатать тираж альбома в этом году? Ангелина Ивановна, твердая начальница, сказала из-за стола, что сейчас неразумно ставить такой вопрос. Точно нельзя на него ответить. Неизвестно, как пойдет импортная обмелованная бумага, произведенная в ГДР, как она акклиматизируется. Нужно, по ее мнению, подождать дней десять. А потом снова вернуться к нему, она предполагает (и настаивает), что они будут печатать на двух машинах, а вот начальник цеха – против.
– Но если даже и на двух, то убыстрения не стоит ждать? – уточнил Кашин.
– Безусловно. Все равно растянется.
– Теперь проясните, Ангелина Ивановна. Кто-то из вас говорил нам о недостаточном для вас тираже – 10 000 экземпляров. Директор наш решил сделать два завода – на двух разных бумагах. Вторая – Корюковская. Можно печатать единым тиражом, но на разных бумагах, а можно двумя заводами – на двух сортах бумаги. Как лучше для типографии? Какой выгоден вам тираж?
Ангелина Ивановна позвонила, спросила у технолога:
– Соня, как лучше?
Ни тот, ни другой варианты не годились по Сониным представлениям. Да и Ангелина Ивановна несколько раз повторяла, что если будут у издательства лимиты на печать. А их было издательству здесь выделено комитетом (Москвой) на 2 миллиона краскооттисков, т.е. как раз на тираж альбома в 10 000 экземпляров.
– А может, мы найдем еще бумаги такой, – предложил Кашин, – и сделаем тираж 15 000 экземпляров? Нужно дополнительно всего 8 тонн, не ах какое количество. В два-три дня его получим.
Ангелина Ивановна опять позвонила Соне, и та с этим вариантом согласилась. Причем Ангелина Ивановна сказала, что при этом условии ей будет легче уговорить, кого нужно, пустить тираж на двух станках. Она как-то подобрела сразу.
– Так кто же возбуждал вопрос о повышении тиража альбома? – С интересом спросил Кашин. – Может, ваш новый завпроизводством?
Ангелина Ивановна так выразительно махнула рукой и нахмурилась, что этим выражала все: недовольство его некомпетентностью во многих производственных вопросах, в чем они уже разобрались, и некоммуникабельностью в их коллективе. Кашин хорошо понял ее.
После этого он взял листок бумаги и ручкой Ангелины Ивановны нарисовал на нем схему двухколонного набора и пометил место, где должен быть дополнительный текст, и сказал, что вот нужно сделать такие исправления еще в пяти первых листах – не сорвет ли это сроки правки?
Ангелина Ивановна, глядя на лежавшую на столе перед ней производственную карту, сказала, что у нее уже готовы к печати – ей переданы – 20 листов и ей хватит по печати на полтора месяца, так что это можно исправить. Но этот вопрос нужно согласовать с Кирой Арсентьевной.
– Она где находится? – Антон представил себе ту грозную технолога, что в первый раз обрушилась в телефонном разговоре на издательство за правку, превышавшую по инструкции норму, и внутренне поджался.
– А вот за стенкой сидит.
В этот момент в производственный отдел вошла еще молодая работница в спецовке, поинтересовалась у Кашина, нашли ли дополнительные шкальные оттиски трех иллюстраций, посланных издательству.
– Когда послали? – спросил Кашин удивленно.
– Двадцатого числа. – Сказала она уверенно.
– Что – этого месяца?
– Да, ноября.
– Впервые слышу. Никто мне об этом не говорил. Но я проверю.
– Проверьте, пожалуйста, а то никто не знает, кто взял. А накладная есть в столе заказов.
Ангелина Ивановна спросила у молчаливо работавшей за столом, что стоял напротив, сотрудницы, выправлен ли текст пяти первых листов альбома. Та сказала, что заборка сделана.
– Значит, еще не делали оттисков? – уточнила Ангелина Ивановна.
– Нет, а что? – спросила сотрудница.
– Да вот издательство хочет еще правку в них сделать.
– Значит, четвертую? – посуровела сотрудница. – Пусть пишут письмо. Получат третью корректуру и сделают.
– А если прислать сюда редактора и корректора, приостановить дальнейшую работу над ними и сразу все сделать, чтобы не осложнять? – предложил Кашин.
– Все равно письмо. Давайте, присылайте. Я приостановлю. Когда пришлете?
– Да завтра же!
У Кашина от сердца отлегло: все разрешилось проще, чем он думал!
Удовлетворенный, он еще попросил Ангелину Ивановну дать ему любой неразрезанный бракованный лист с открытками, которые печатались для «Авроры» – издательства как пособие для расчетов редакторов и техредов, готовивших тоже открытки видовые. Дело в том, что об этом его попросили те и в «Лениздате»: они не знали сколько штук открыток поместится на печатном листе, так как не мыслили технологически, проявляли в этом некомпетентность. Он их убеждал, что одинарных открыток поместится на печатном листе 32 штуки, а двойных 16 штук. И теперь наглядней было бы для всех показать такой лист. В иных же несамостоятельных типографиях помещали на полулисте лишь шесть открыток и рядом ставили свой так называемы ширпотреб, и в том никого не удавалось уличать.
Ангелина Ивановна пошла в цех за пробным оттиском с открытками. А Кашин тем временем зашел в стол заказов. Спросил:
– Нельзя ли посмотреть накладную, кто в ней расписался, чтобы установить, кто же именно? А то художественный редактор заболел, его нет на работе. А он ведь тоже приезжал сюда, к Вам, – и мог тоже забрать, а мы не знаем этого.