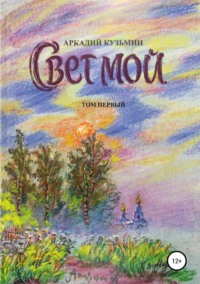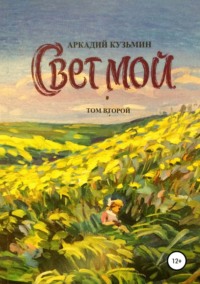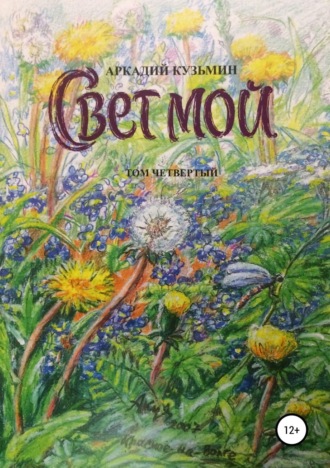
Свет мой. Том 4
– Скажите: а подобные случаи уже были здесь?
– Не знаю, я тут недавно работаю…
В это время молодая дежурная вынесла два пакета с фруктами и вручила их Антону:
– Это Вам обратно.
– Вот видите, – резюмировала пожилая с сочувствием.
Донельзя расстроенный, он взял пакеты; он попытался сразу всунуть их в портфель – они не влезали; он попробовал высыпать содержимое их прямо в портфель – у него не получалось. Не хватало рук. А присутствовавшие смотрели на него, как на кающегося грешника, – сочувствующе. Он с трудом всунул-таки пакеты в портфель. Прочел коротенькую записку от жены. Вышел вон, на мороз.
И с улицы, обернувшись, он увидал ее в верхнем окне. Она оттого что видела его, вся дрожала.
И только теперь при виде ее он как бы зримей почувствовал всю жестокость, с какой трусливые равнодушные люди ждали от нее ребенка. Прокричав ей что-то, он ушел в смятении. Да, сговор у нее с матерью несомненно был, и теща несомненно водила его за нос относительно любовника ее или любимого. Антон не против этого. Но нужно же не во вред жизни делать это!
Когда тесть позвонил ему, он возмутился, предположив, что теща, видно, в сговоре с дочерью: Коля является в больницу к ней, а он ничего не знает! И не дело – так экспериментировать с ее судьбой. На что тесть повторился легко:
– Ну, в этом я ничем помочь не смогу.
«Удивительно! Люди не понимают, что от Любы ему ничего не нужно. Он только печется о ее здоровье, так как знает: оставь он это дело так – и человек может погибнуть, потому что все всегда решают почему-то так, как им самим удобнее в первую очередь, а не для того, о ком нужно думать. Действительно, для меня сотворили зло, но мне приходится как-то помогать спотыкающимся, отставив в сторону обиду. Потому что мне совестно, если по моей ли, или по чьей-то вине человек страдает, нуждается в помощи. Даже в неосознанной».
Прошли уже февральские морозы. Было с утра – 11°.
Антон Кашин заспешил вдруг, осознав серьезность момента; он узнал только в воскресенье вечером о том, что Любу выписывают из родильного дома, куда она попала гриппозной и с токсикозом, в понедельник. Он приезжал в больницу с передачей для жены. Но ни ее мать, ни ее отец ему не позвонили, так что они могли и не знать о ее выписке. Он еще полагал, что они в понедельник утром позвонят ему на работу, все узнают, и тогда каждый из них поедет своей дорогой. И там, в родильном доме, встретятся. Самое простое решение. Родильный дом находился на городской окраине – далековато; проезд до него обходился в такси в 4 рубля – вполне сносно. Однако Любины родители не позвонили Антону, и он, сразу сорвавшись, помчался на другой конец города – в Новую Деревню. Он успевал до одиннадцати часов. И поэтому успокаивался, замечал какие-то новшества вокруг, мимо которых проезжал в автобусе.
Он увидал, переезжая Невку, что возле массивного здания Медицинской Академии сломали старое здание, что у Черной речки был забор и что что-то здесь строили. «Ну, а тут – что? – спросил он сам себя и глянул направо. – Тоже успели сломать с тех пор как я здесь не был?» В саду, среди старых лип и тополей, за садовой решеткой, стояло какое-то старинное неприглядное здание в стиле замка, и даже был въезд с дорожкой. Здесь располагалась какая-то больница. Вокруг нее разгуливали больные в полосатых пижамах. И вдруг в какой-то розоватой морозной дымке выплыло это здание – все розоватое в утренней дымке, будто покрашенное наспех самым примитивным образом. Какой-то грязной серо-розовой краской. Но теперь от пробивавшихся солнечных лучей оно розовело мощно на голубоватом снегу и оттого деревья казались какими-то красными на его фоне. Реально и в то же время призрачно, картинно. Они вырисовывались как некое видение.
«Вот так бы теперь написать, – только и подумал Антон. – Поехать бы в Зеленогорск».
Дома Янины Максимовны («бывшей тещи», – подумалось ему) не оказалось: Павел Игнатьевич, «бывший тесть», открыв ему дверь, сказал, что она уже уехала в больницу. И Антон поторопился поймать такси, поскольку в одиннадцать начинали выписывать рожениц с детьми. Он присоединился к сидевшей на скамейке в вестибюле Янине Максимовне. В ожидании выписки Любы. Солнце сквозь стекла уже по-весеннему пригревало. Счастливые папы принимали из рук медсестер новорожденных. Была радостная суета. А выписать больных из дородового отделения, находившегося на 4-м этаже, могли лишь по звонку из справочной; но та работала с часу дня – такой дискомфорт. И вот когда после долгих проволочек Люба, бледная, исхудавшая за месячное лечение здесь от токсикоза – отравления организма от плода, вышла к ожидавшим ее матери и пока еще мужу, качаясь от худобы и запахивая шубку, она увидала их и заплакала. И Антон не знал, как ее утешить и мог ли. Теперь – вряд ли. Лишь покачал на нее головой. Помог заправить шарфик под шубку. И сказал: «Ну, наконец вернулась из добровольного заточения?» Она улыбнулась на это.
Люба, выходя из роддома, оглянулась и помахала рукой в окна глядящим на нее роженицам. Те замахали в ответ ей, а одна из них полуоткрыла раму окна и крикнула:
– Счастливо! Ты уж рожать к нам приходи!
«Наверное, ведь рассказала ей о своем ненормальном положении, – предположил для себя Антон. – Не случайно так крикнула, выдавая прежде всего ее». Но ему было все равно, а главное – ее жалко.
– Да, такой добрый персонал, включая нянечек, что я не знаю, чем отблагодарить, – призналась Люба. – Конфет им свезти, что ли?
– Да, да, доченька, свези, – поспешно проговорила Янина Максимовна. – Пошли прямо через садик, на солнышко.
Она все оглядывалась на окна и заплакала опять. Потом сказала сквозь слезы:
– Ой, зима совсем кончилась.
– Ну, еще не совсем, – возразили в два голоса ее муж и мать.
И долго они шли дворами, где не было ни людей, ни машин, где было просторно и еще лежал снег.
Люба заговорила о том, что она в больнице вынесла и на что насмотрелась. Были всякие истории. Одни беременные приезжают и через три часа рожают, а другие перехаживают сроки, по трижды являются сюда – и бесполезны их старания. Только и наказывают врачи: «ходи, ходи!»А они никак не выродят дите, лежат по три недели. Они-то уж и нянечкам помогают все делать и полы мыть. А вон восемнадцатилетняя дева рожала. Что-то плохо ей, сидит – поясницу потирает, анекдот рассказывает. Врач силой положил ее на постель – уж ребенок показался. Только-только родила, садится:
– Ой, я же анекдот не дорассказала вам до конца!..
Врач с силой повалил ее на постель.
Так вся бригада врачей диву дивилась на нее.
А одна директорша похудела до тридцати восьми килограмм. Токсикоз. Вот до чего дошла. Но от рвот, врачи говорят, не умирают. Только роженицы учили меня, куда не попадать: в три адреса – на Школьную, при больнице Эрисмана и еще куда-то. Да, вспомнила: на Тверскую…
– Ты хорошую школу прошла здесь на будущее, – вырвалось у Антона.
– Когда лежала в послеродовом отделении, мне не было так спокойно, как в дородовом, хотя тоже насмотрелась на все. Там встают мамы в пять утра: надо подмыть ребенка, накормить – он уже кричит…
– А читать что-нибудь есть? – спросил Антон.
– Ну, здесь не до этого. Здесь все женщины хуже малых детей. В таком состоянии экстремальном. Сейчас хочется шашлыка, через час – подай колбасы, потом… потом только разговоры интеллектуальные: как Наташка родила, а Верка еще перехаживает… Уж врач, Петр Михайлович, – называла она всех по именам, – говорит ей: «Да ты, голубушка, кричи! Тебе легче будет». Врачи всем рожающим так советуют.
Она губы закусила – и только. И даже не кричала. Когда у ней спросили, почему не кричала, она ответила: «Я представила себе, как пытали фашисты наших людей в застенках – и легко роды перенесла». О, до чего бабы дошли!
– Когда меня перевели на четвертый этаж, нянечка об этом узнала и, хотя это не ее дело, поднялась ко мне, поинтересовалась, каково мне. Вот до чего заботливый тут медперсонал. Возится с нами – дай бог! Говорили: «У тебя будет такой дедушка, какого ни у кого нет. Так часто ездит сюда. У внука будет хороший дедушка». Его уже все нянечки узнавали.
– Да, ты, доченька, отблагодари его. Он это любит, – сказала Янина Максимовна. И по этим разговорам Антон чувствовал: у них договоренность, секретная от него.
IV
Он и не думал пока говорить с ней о чем-то том, что ей, по его мнению, нужно было решить; как выяснялось с каждым разом невольно, невзначай, она все уже решила, решила бесповоротно. И потому так плакала. И что он мог поделать? Он не играл в этой игре. Его уже выключили из нее.
Когда он приезжал сюда с передачами для нее, он воспринимал все обостренней. На всякое можно было насмотреться у справочного. И в первый и во второй раз ему сиделки сказали в окошко вежливо: «А к ней уже приезжали».
– Да? – переспрашивал он.
– Да, молодой человек.
– Ну и хорошо. Наверное, брат ее.
– Такой молодой?
– Ну, передайте все-таки. Тут немного.
И Антону было неприятно только в том плане, что его вынуждали врать на каждом шагу. Он каждую минуту мог опростоволоситься, и только. Ведь этого можно было вполне избежать. Хочет тот ездить – ну и пусть! Не возбраняется. Антон-то приезжал по долгу, потому что боялся, что ее могли кинуть, забыть и оставить в таком положении тяжелом.
Тогда она станет переживать, и это будет еще хуже – может отразиться на ее здоровье, психики; опять начнутся рвоты, поднимется температура, она будет худеть. Все было взаимно связано. И он видел, как запросто мужчины вели себя в подобных ситуациях.
В пятницу в справочной он наблюдал такую сценку. Приехал молодой папаша. Папаха, бакенбарды, модные брюки, сверхмодные остроносые полуботинки со шнурочками сбоку – все, как полагается джентльмену. Пьяненький, конечно. Подсунулся к окошку. Через окошко заговорил с сиделкой. Как хорошо, что родилась у него дочка. Другие отцы недовольны, что рожает жена дочку, а мне, мол, хорошо, лишь бы была она здорова и жена была здорова. Он был без всего в руках.
– Вот в три часа ночи привез ее сегодня, и сегодня же, часа два назад она родила. Каково! Так быстро.
К окошку подошла девушка с передачей. Он стал говорить и с ней на эту тему.
– Лишь бы была здорова, – повторил он. Перегнулся через стол, стал читать листок, прикрепленный к стене, в котором отмечалось, кто у кого родился – сын или дочь. И вдруг стал вслух читать и спросил у девушки: – А что такое здесь написано? Вот у Антоновой… Что такое кесарево сечение?
Девушка застенчиво отвернулась от него.
Потом он выпросил у парня веточку мимозы и, неуклюже обмотав стебель ее каким-то клочком бумаги, передал сиделке.
– А кому? Не написал…
– Да Вы, мамаша, напишите, у меня ничего нет. Бочаровой. Палата… – он назвал номер палаты…
Кто из мужчин подходил к ящику для писем, раздраженный:
– Вот и не разобраны! Какое безобразие!
Кто чертыхался на бабок, с которыми приехал сюда, из-за того, что они привезли с собой ненужные вещи, а не то, что разрешается (а он их послушал). И после чертыхания бежал в ближайший промтоварный магазин, чтобы купить то, что следует – и притом так деловит, так озабоченно-хозяйски, что все это уже претило Антону.
И вот теперь, как только Любу привезли в отцовскую квартиру, Антон не мог начать с ней разговор. Да и ни к чему по существу. Ясно было, что она и мать уже все давным-давно обсудили – обговорили. И потому-то она всплакнула, жалея именно о расставании с ним, Антоном, бессильная оттого, что все так ненужно получилось. И это больше всего возмущало и огорчало Антона. Он не мог никак, как хотел бы, предупредить ее о том, что ее могло ожидать в новой неизвестной жизни в связи со странными телефонными звонками ему.
Последний был накануне. Из-за чего Антон заключил, что Любин ухажер только что сообщил родителю о своем намерении жениться на Любе.
– Товарищ Антон! – с такого странноватого обращения начал в трубке надтреснутый голос, и в нем он с легкостью уже узнал анонима, просившего его о встрече, чтобы обсудить самовольство его – Антоновой – жены. – Я звоню, чтобы Вы наконец приняли меры в отношении жены.
Это уже было слишком. Антон не ругался матом никогда. Но не сдерживал возмущения от бесцеремонности говорившего по телефону.
В месте с тем старался не выходить из себя, не скандалить зря; телефонный аппарат находился в коридоре коммунальной квартиры – он служил для всех, и были охочие любители слышать чужой разговор.
– Какие меры? – спросил он.
– Ну, Вы, наверное, знаете, что она готовится сделать…
– Очевидно. Они любят друг друга. Это не запретительно… А кто со мною говорит?
– Товарищ Вадима. И я бы Вам посоветовал, как бы она не раскаялась, не пожалела. Ведь она хочет развестись с Вами, а Вадим значительно моложе ее.
– Ну в этом плане я не советчик ей. Люди выбирают сами.
– Ну, как же… Она погубит свою жизнь…
– А у него-то есть голова на плечах? Он же должен отвечать за все?
– К сожалению, он меня не слушает…
– Ну здесь мы с Вами не найдем общего языка. Люди выбирают себе путь, – повторил Антон, – и надо им доверять. Да и почему Вы теперь спохватились? Где были раньше?
– К сожалению, он дал Ваш телефон только сейчас… – И без всякого «До свиданья» трубка говорившим была опущена на рычаг.
На всякие родительские загибоны, имеющие смысл решить судьбу своих чадушек за них более разумно, ответственно, чем так, как они сами хотят, Антон смотрел как бы с высоты своей самостоятельности всегда: не сметь мешать выбору детей, пусть они пробуют себя и в создании семьи. Нужно всему учиться. Тем более нравственным началам. Ребенок от родителей набирается опыта.
То, что Антон вел себя сейчас так в общении с Любой, которую любил, но не хотел нисколько ей мешать в ее любви; то, что судьба, выходит, вновь предоставила ему еще одну возможность проверить себя на человеческие качества и в этой щемящей до боли ситуации, где трудно удержаться, это его радовало отчасти. Несомненно на ее решение расстаться с ним повлиял Вадим, папенькин сынок. И она теперь расхлебывает то, что они заварили.
Ни о своих подозрениях о том, что Люба и мать в сговоре, ни о том, что они проигнорировали его, Антона, а считают, что он обязан это понять в порядке вещей и даже все понять, он пока не сказал ей, тем более о странном телефонном разговоре с доброжелателем.
Вечером того же дня, позвонив в институт полиграфический, куда его пригласили читать лекции по художественному оформлению книги, и с чем он согласился (а теперь это его заботило) и, узнав, что он в Москве еще не утвержден преподавателем, и что ему дадут часы лишь по утвержденному плану, он успокоился: сегодня не нужно было готовиться к занятиям.
Он зашел в сосисочную поужинать.
К нему за столик подсели три девушки – студентки, судя по их разговору: две – первокурсницы, очевидно, а одна, державшаяся покровительственно по отношению к подружкам (что и чувствовалось по ее наставительному тону в разговоре с ними), более продвинутая уже студентка, уверенная в себе. И Антон тут снова поразился отдаленности их разговора от тех мыслей и переживаний, которые занимали его.
Молоденькие собеседницы сейчас, казалось, озабочивались сущими пустяками: вот за какого парня Рита собирается выйти замуж, что он, Стась, может, и неплох, только высокомерный какой-то, много мнит о себе. А вот Белла сделала правильный ход, захомутав бедного Ванечку, и т.п.
– Ну, он сейчас потерял меня, – сказала одна из них с ангельским личиком.
– Кто, Ваня? – переспросила другая.
– Да нет. Мой Сережа. Я ведь не сказала ему, куда пошла, – говорила красавица, поедая мороженое и держа чашку мороженицы за ножку пухлыми, как у младенца, пальчиками, оттопыривая мизинец. Было в этом что-то Гоголевское или Кустодиевское.
«Нет, мне такая не может быть парой, – прикинул Антон, – пусть она и такой прекрасной будет».
V
C изменой Любы, расставшись с ней и попав так в немыслимую несуразность, однако Антон вел прежний образ жизни – компанейский с друзьями и товарищами по делам и привычно творческий, сложившийся. Кроме производственной издательской работы, он, как художник-график, придумывал эскизы открыток, плакатов и книг и готовил оригиналы их, а также живописал природную натуру маслом, либо акварелью, для чего мотался с тяжелым этюдником по окрестностям и всюду, где бывал. Это уже установилось для него правилом, жизненной необходимостью.
Он этим не форсил, не задавался ни перед кем, не хотел выделиться, отнюдь. Видел, знал, что иные творческие натуры и постарше, поопытней, помудрей и несомненно талантливей его. И все же в общении со всеми он держался неким особняком со своей какой-то внутренней тайной, которую он никак не мог раскрыть ни перед кем, ни даже перед любимой женой. Да перед ней он вообще не мог похвастаться какой-то своей мужской особенностью – как-то утишал ту.
Наверное, вот поэтому и упустил ее из-за неготовности так мужествовать нужным стоящим образом. Несомненно.
Он тем не менее после развода с Любой дружески общался с ней иной раз; он ее поддерживал по своей какой-то духовной необходимости и также для своего спокойствия за нее, ее благополучие; он верно чувствовал, что ее любовное наитие не может осчастливить ее, а, напротив, в будущем причинит ей страдание, боль. Заблуждаться здесь не следовало. Зная натуру Любы.
И скрытные желания близких ему людей тотчас же приватизировать его, свободного, их новой пассией, готовной к тому, лишь возмущало его таким откровенным вторжением. Он будто предчувствовал единственно верное продолжение своего пути – совсем иное, чем предполагали все они.
Его знакомый финансист из крупного учреждения, столярничавший Борис Афонин смастерил по его чертежу два разномерных этюдника. Но денег за свою работу не взял, взамен лишь согласился на ресторанный ужин. Так что компания друзей отужинала в ресторане «Восточный». И отсюда в полночь Махалов, Ивашев с женой Зоей и дочкой Настей и Антон приехали на такси в Разлив, где те снимали дачу. В Разливе они перво-наперво полезли в озеро, чтобы искупаться; для Антона тут – за неимением другого – сгодился женский купальник, найденный Зоей. Дело ночное.
Утром, проспавшись, Махалов и Кашин, пока ехали в электричке на службу, сочиняли маршрут по «Золотому кольцу», куда они хотели отправиться в отпуск на этюды и куда зазывали с собой и Ивашева, юриста. Тот сопротивлялся логично:
– А что я буду делать – без руки? Без толики художественного воображения.
– Будешь кашу нам варить, – нашелся Махалов.
И его уговорили отдохнуть вместе.
Однако с отпуском у Ивашева дело застопорилось. А за Махаловым поначалу увязалась вся семья, в том числе и его мать, верховодившая родственниками. Обосновались в каком-то подмосковном селении. Попали с самого начала в какой-то человеческий водоворот.
Смутно помнилось то, как они застряли на день-другой в подмосковной избе: ждали прилета из Ташкента графика, приятеля Махалова, о чем тот при сборах умолчал, утаил, что не нравилось Антону в их товарищеских отношениях. Вечером тьма народу набралось на торжество, и здесь завидный мужчина с вихрами увлеченно рассказывал красивую историю о своем ружье, которую уже не все слушали:
– У нас до революции фабриканствовал бизнесмен Шестаков, простой, демократичный. Держал канатную фабрику. Двести пятьдесят человек работающих. Он в пятнадцатом-шестнадцатом году купил у генерала Гурко ружье тульского мастера-оружейника – гладкоствольное. А оно было увезено генералом из Беловежской пущи. Из царской охоты. Шестаков прислал его к моему отцу. В двадцатом году. В футляре – ореховое ложе с инкрустацией; принес нарочный – цыган.
Отец как глянул на ружье – оно все блестит – не захотел его взять. У него было трехствольное нарезное (для охоты на волка). Цыган: «Да ты, что, бери! У Шестакова, ты думаешь, нет еще?» Тогда я уговорил отца взять ружье. Мне было шестнадцать лет. На другой год с бывалыми охотниками вышел на охоту. И каждый охотник подходил ко мне, рассматривал ружье. А один – старейший – попросил: «Дай хоть подержать». Потом: «Давай менять». «Не могу, – говорю. – Подарок». И только на четвертый после этого год я смог убить зайца. Он выскочил неожиданно на меня. Я даже испугался. Пальнул – он и запрыгал.
Тут Шестаков прислала нарочного, затребовал: «Отдай ружье!» И отец велел отдать. А мне жалко. Не отдал. «Взамен пришлю», – сказал даритель. Но два месяца прошло, а никакой замены нет. Тогда я сам написал нахально записку Шестакову: «Взамен пришли».
Варя отвезла записку. В этот момент он не дал. Я говорю ей: еще напомни.
Он и дал другое ружье двенадцатого калибра (в 20-м году). Так это ружье и привыкло. Он не требовал назад. А отец за него платил Шестакову много: то пшено, то дрова пошлет.
Цевье было с инкрустацией; футляр – с замшей, перевитой веревочками. На канатной фабрике делали канат для Англии. Веревочки плели окрестные крестьяне – на фабрике скручивали их.
Изделие удивительно крепкое: он отдал ружье знакомому, тот ружье немного попортил – поломал ложу – оно треснуло. На так ничего. Живет с трещиной.
У Гурко от нашего селения было имение. Пивоваренный завод.
Рассказчик уж не охотится лет десять. Хорошая охоты была на Дальнем Востоке. Двенадцать калибров больше идет на дичь.
– А волков убивал? – Спросили у него.
– Нет. Стрелять стрелял. Думал, что теленок, а это волк.
– Ну и что?
– Да ничего. У меня ведь утиная дробь. Под Казанью ехали в машине и на повороте фары осветили межу. И вот стоит что-то такое серое и смотрит в упор. Говорю:
– Теленок это.
– Какой теленок! – вскричал шофер. – Это волк. Стреляй! Ну, утиной дробью я пощекотал ему пятки – и только. Только после этого я понял, что это волк. После этого стал менять дробь на волка. Но волка больше и не встретил. А один преподаватель так убил волка.
Назавтра – поскольку прилет графика Вербицкого откладывался – ленинградцы поехали в Третьяковскую галерею: вместе с Антоном и Костей также его жена Ирма и сын-подросток Глеб, недовольно пикировавшиеся с главой семейства еще с вечера. Вследствие чего Антон чувствовал себя среди них как вообще подопытным, сторонним человеком. Видно, семейный космос у Махаловых еще не построился надлежащим образом сообразно порядку для нормального существования, или функционирования. Он пока бултыхался попусту. Тем не менее Антон по-человечески даже сочувствовал сейчас Ирме и старался в стенах галереи популярней ей рассказать, обходя музейные картины, о их значимости, прелести и уникальности в объеме того, что он сам знал о них и о тех, к которым был особенно пристрастен. Ирма с готовностью принимала его эту помощь. Но только Антонова услужливость не исправляла в семье Махалова семейный климат: был запущен какой-то умственный разброд. Непоправимый.
На третий день наконец прибыл деловито-напористый Вербицкий, знающий, с чего начать монастырские зарисовки. И тут уж Антон не выдержал – не стерпел непозволительный диктат ему, живописцу: он заявил, что возвращается в Ленинград с красками, как ни скверно, предательски чувствовал он себя перед Махаловым.
Но поделать ничего другого он не мог.
И вздохнул лишь тогда, когда поезд промчался в обратном направлении через станцию Алабышево, где гостил три эти дня бесполезные.
Антон постоянством отличался. Что у него было и в любви же старомодной к ладной живописи неизменной, независимой, как благо. Ныне все решительно бежит куда-то, сломя голову; у художников первенствует вездесуще графика – торопится блеснуть вслед за миром торопливым. Ну и пусть она ликует и диктует свою моду и ужасное косноязычие. Расталкивает нерасторопных. Всему, всему – черед свой. А живопись, как бабка вечная, устойчиво и обстоятельно ведет со зрителем беседу. В красках, в образах философствует. С собой. И с нами.
VI
Под Приозерск, куда он почему-то сразу же, по приезду из Москвы, наметил свою поездку один, без товарищей, он выехал очень рано из города. В дороге сделал, как и другие, пересадку из электрички в обычный поезд; а дальше, на станции Отрадное, сел еще в автобус, в котором ему предстояло проехать километров 12 – 15. Как только выехали за пределы этой станции, вид сельской местности успокоил его и обрадовал несказанно: уже давно он не видел такой красоты, только бредил ею. И вот наконец оказался среди нее. Впечатление от нее у него было даже сильнее, чем он предполагал в душе. И особенно его поразили волны красновато-бурой травы, еще нескошенной, вперемешку с рожью и пшеницей, спускавшейся далеко, к голубевшему тихому озеру, над которым с той стороны стоял стеною зеленый лес. Как бывает на Карельском перешейке, повсюду виднелись вразброс домики, бани, сараи, обрамленные елями, березками, а то и тополем.
Он не знал, зачем сюда поехал. Просто ему хотелось побыть одному наедине с природой, как было когда-то. Он понимал хорошо природу, она – его. Хотелось как можно больше поработать маслом, проверить еще раз свои возможности. А может быть и потому, что был здесь восемь лет назад и знал эти места, где и познакомился с Любой и писал этюды – привез их отсюда штук двадцать. Половину из них он, разумеется, разбазарил – раздал всем. Но часть все-таки осталась.