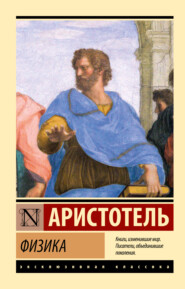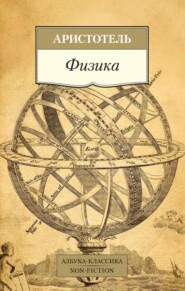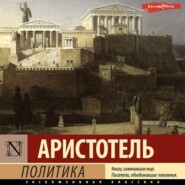По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Метафизика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но точно так же и суть бытия вещи нельзя сводить к другому определению, более пространному: ведь предшествующее определение всегда есть определение в большей мере, а последующее – нет; если же первое не есть определение сути бытия вещи, то еще менее последующее. Далее, те, кто так утверждает, уничтожают знание: ведь невозможно знать, пока не доходят до неделимого. И познание [в таком случае] невозможно, ибо как можно мыслить то, что беспредельно в этом смысле? Ведь здесь дело не так обстоит, как с линией, у которой деление, правда, может осуществляться безостановочно, но которую нельзя помыслить, не прекратив его; так что, кто хочет обозреть ее в беспредельной делимости, тот не может исчислять ее отрезки. Но в движущейся вещи необходимо мыслить и материю. И ничто беспредельное не может иметь бытие; а если и не так, то во всяком случае существо (to einai) беспредельного не беспредельно.
С другой стороны, если бы были беспредельны по количеству виды причин, то и в этом случае не было бы возможно познание: мы считаем, что у нас есть знание тогда, когда мы познаем причины; а беспредельно прибавляемое нельзя пройти в конечное время.
Глава 3
Усвоение преподанного зависит от привычек слушателя; какие у нас сложились привычки, такого изложения мы и требуем, и то, что говорят против обыкновения, кажется неподходящим, а из-за непривычности – более непонятным и чуждым, ибо привычное более понятно. А какую силу имеет привычное, показывают законы, в которых то, что выражено в форме мифов и по-детски просто, благодаря привычке имеет большую силу, нежели знание самих законов. Одни не воспринимают преподанного, если излагают математически, другие – если не приводят примеров, третьи требуют, чтобы приводилось свидетельство поэта. И одни хотят, чтобы все излагалось точно, а других точность тяготит или потому, что они не в состоянии связать [одно с другим], или потому, что считают точность мелочностью. В самом деле, есть у точности что-то такое, из-за чего она как в делах, так и в рассуждениях некоторым кажется низменной. Поэтому надо приучиться к тому, как воспринимать каждый предмет, ибо нелепо в одно и то же время искать и звание, и способ его усвоения. Между тем нелегко достигнуть даже и одного из них.
А математической точности нужно требовать не для всех предметов, а лишь для нематериальных. Вот почему этот способ не подходит для рассуждающего о природе, ибо вся природа, можно сказать, материальна. А потому надлежит прежде всего рассмотреть, что такое природа. После этого станет ясным и то, чем занимается учение о природе, ‹есть ли исследование причин и начал дело одной или нескольких наук›.
Книга третья
Глава 1
Для искомой нами науки мы должны прежде всего разобрать, что прежде всего вызывает затруднения; это, во-первых, разные мнения, высказанные некоторыми о началах, и, во-вторых, то, что осталось до сих пор без внимания. А надлежащим образом разобрать затруднения полезно для тех, кто хочет здесь преуспеть, ибо последующий успех возможен после устранения предыдущих затруднений и узел нельзя развязать, не зная его. Затруднение же в мышлении и обнаруживает такой узел в предмете исследования; поскольку мышление находится в затруднении, оно испытывает такое же состояние, как те, кто во что-то закован, – в том и в другом случае невозможно двинуться вперед. Поэтому необходимо прежде рассмотреть все трудности как по только что указанной причине, так и потому, что те, кто исследует, не обращая внимания прежде всего на затруднения, подобны тем, кто не знает, куда идти, и им, кроме того, остается даже неизвестным, нашли ли они то, что искали, или нет: это потому, что для такого человека цель не ясна, тогда как для того, кто разобрался в затруднениях, она ясна. Далее, лучше судит, несомненно, тот, кто выслушал – словно тех, кто ведет тяжбу, – все оспаривающие друг друга рассуждения.
Так вот, первое затруднение относительно тех начал, которые мы разобрали вначале, заключается в том, исследует ли причины одна или многие науки и должна ли искомая нами наука уразуметь только первые начала сущности, или ей следует заниматься и теми началами, из которых все исходят в доказательстве, как, например, выяснить, возможно ли в одно и то же время утверждать и отрицать одно и то же или нет, и тому подобное. И если имеется в виду наука о сущности, то рассматривает ли все сущности одна наука или несколько, и если несколько, то однородны ли они, или же одни следует называть мудростью, а другие – по-иному. И вот что еще необходимо исследовать: существуют ли одни только чувственно воспринимаемые сущности или также другие помимо них, и [если также другие], то имеются ли такие сущности только одного вида или их несколько родов, как полагают те, например, кто признает Эйдосы, а также математические предметы как промежуточные между Эйдосами и чувственно воспринимаемыми вещами. Эти вот вопросы надлежит, как мы утверждаем, рассмотреть, а также вопрос о том, касается ли исследование одних лишь сущностей или также привходящих свойств, которые сами по себе им присущи. Кроме того, относительно тождественного и различного, сходного и несходного, ‹одинаковости› и противоположности, а также предшествующего и последующего и всего тому подобного, что пытаются рассматривать диалектики, исходя лишь из правдоподобного, следует спросить: какой науке надлежит рассмотреть все это? И далее, также относительно привходящих свойств, которые сами по себе им присущи, не только что такое каждое из них, но и противоположно ли одному [лишь] одно. Точно так же, есть ли указанные выше начала и элементы роды или же они составные части, на которые делится всякая вещь? И если они роды, то те ли, что как последние сказываются о единичном (atomos), или первые, например, живое ли существо или человек начало и кому из них бытие присуще в большей мере по сравнению с отдельным существом? Но главным образом нужно рассмотреть и обсудить вопрос: имеется ли кроме материи причина сама по себе или нет, и существует ли такая причина отдельно или нет, а также одна ли она или имеется большее число таких причин? Также: существует ли или нет что-то помимо составного целого (а о составном целом я говорю, когда что-то сказывается о материи) или же для одних вещей существует, для других нет, и [в последнем случае] что это за вещи? Далее, ограниченны ли начала по числу или по виду – и те, что выражены в определениях, и те, что относятся к субстрату, – а также имеют ли преходящее и непреходящее одни и те же начала или различные, и все ли начала непреходящи или же начала преходящих вещей преходящи? Далее, самый трудный и недоуменный вопрос: есть ли единое и сущее, как это утверждали пифагорейцы и Платон, не нечто иное, а сущность вещей, или же это не так, а в основе лежит нечто иное, например, как утверждает Эмпедокл, дружба, а другие указывают: кто – огонь, кто – воду или воздух? И кроме того, есть ли начала нечто общее или они подобны единичным вещам и существуют ли они в возможности или в действительности? И далее, существуют ли они иначе, чем в отношении движения? Ведь и этот вопрос представляет большое затруднение. Кроме того, есть ли числа, линии, фигуры и точки некие сущности или нет, а если сущности, то существуют ли они отдельно от чувственно воспринимаемых вещей или же находятся в них? По всем этим вопросам не только трудно достичь истины, но и нелегко надлежащим образом выяснить связанные с ними затруднения.
Глава 2
Итак, прежде всего надлежит разобрать вопрос, поставленный нами вначале: исследует ли все роды причин одна или многие науки?
С одной стороны, как может быть делом одной науки – познавать начала, если они не противоположны друг другу? И кроме того, многим из существующих вещей присущи не все начала. В самом деле, каким образом может начало движения или благо как таковое существовать для неподвижного, раз все, что есть благо, само по себе и по своей природе есть некоторая цель и постольку причина, поскольку ради него и возникает и существует другое, цель же и «то, ради чего» – это цель какого-нибудь действия, а все действия сопряжены с движением? Так что в неподвижном не может быть ни этого начала, ни какого-либо блага самого по себе. Поэтому в математике и не доказывается ничего через посредство этой причины, и ни в одном доказательстве не ссылаются здесь на то, что так лучше или хуже, да и вообще ничего подобного никому здесь даже на ум не приходит. Вот почему некоторые софисты, например Аристипп, относились к математике пренебрежительно: в остальных искусствах, мол, даже в ремесленнических, например в плотничьем и сапожном, всегда ссылаются на то, что так лучше или хуже, математическое же искусство совершенно не принимает во внимание хорошее и дурное.
С другой стороны, если существуют многие науки о причинах, одна – об одном начале, другая – о другом, то какую из них надо признать искомой нами наукой и кого из тех, кто владеет этими науками, считать наилучшим знатоком искомого предмета? Ведь вполне возможно, что для одного и того же имеются все виды причин; например, у дома то, откуда движение, – строительное искусство и строитель; «то, ради чего» – сооружение; материя – земля и камни; форма – замысел дома (logos). И если исходить из того, что было раньше определено по вопросу, какую из наук следует называть мудростью, то имеется основание называть каждую из этих наук. Действительно, как самую главную и главенствующую науку, которой все другие науки, словно рабыни, не смеют прекословить, следовало бы называть мудростью науку о цели и о благе (ибо ради них существует другое). А поскольку мудрость была определена как наука о первых причинах и о том, что наиболее достойно познания, мудростью надо бы признать науку о сущности. В самом деле, из тех, кто по-разному знает один и тот же предмет, больше, по нашему мнению, знает тот, кто знает, что такое этот предмет по его бытию, а не по его небытию; из тех же, кто обладает таким знанием, знает больше, чем другой, и больше всего тот, кто знает суть вещи, а не тот, кто знает, сколь велика она, или какого она качества, или что она способна по своей природе делать или претерпевать; а затем и в других случаях мы полагаем, что обладаем знанием чего-то, в том числе и того, для чего имеются доказательства, когда нам известно, что оно такое (например, что такое превращение в квадрат: это нахождение средней [пропорциональной]; так же обстоит дело и в остальных случаях). С другой стороны, относительно того или другого возникновения и действия, как и относительно всякого изменения, мы считаем себя знающими, когда знаем начало движения. А оно начало, отличное от цели и противоположное ей. Таким образом, можно подумать, что исследование каждой из этих причин есть дело особой науки.
Равным образом спорен и вопрос о началах доказательства, имеется ли здесь одна наука или больше. Началами доказательства я называю общепринятые положения, на основании которых все строят свои доказательства, например положение, что относительно чего бы то ни было необходимо или утверждение, или отрицание и что невозможно в одно и то же время быть и не быть, а также все другие положения такого рода; так вот, занимается ли этими положениями та же наука, которая занимается сущностью, или же другая, и если не одна и та же, то какую из них надо признать искомой нами теперь? Полагать, что ими занимается одна наука, нет достаточных оснований. Действительно, почему уразумение этих положений есть особое дело геометрии, а не дело какой бы то ни было другой науки? Поэтому если оно в одинаковой мере относится ко всякой отдельной науке, а между тем не может относиться ко всем наукам, то познание этих начал не есть особое дело ни прочих наук, ни той, которая познает сущности.
Кроме того, в каком смысле возможна наука о таких началах? Что такое каждое из них, это мы знаем и теперь (по крайней мере и другие искусства пользуются этими началами как уже известными). А если о них есть доказывающая наука, то должен будет существовать некоторый род, лежащий в основе этой науки, и одни из этих начал будут его свойствами, а другие аксиомами (ибо невозможны доказательства для всего): ведь доказательство должно даваться исходя из чего-то относительно чего-то и для обоснования чего-то. Таким образом, выходит, что все, что доказывается, должно принадлежать к одному роду, ибо все доказывающие науки одинаково пользуются аксиомами.
Но если наука о сущности и наука о началах доказательства разные, то спрашивается: какая из них главнее и первее по своей природе? Ведь аксиомы обладают наивысшей степенью общности и суть начала всего. И если не дело философа исследовать, что относительно них правда и что ложь, то чье же это дело?
И вообще, имеется ли о всех сущностях одна или многие науки? Если не одна, то какую сущность надлежит признать предметом искомой нами науки? Маловероятно, чтобы одна наука исследовала все их; в таком случае существовала бы также одна доказывающая наука о всех привходящих свойствах [этих сущностей], раз всякая доказывающая наука исследует привходящие свойства, сами по себе присущие тому или иному предмету, исходя из общепризнанных положений. Поэтому если речь идет об одном и том же роде, то дело одной науки исходя из одних и тех же положений исследовать привходящие свойства, сами по себе присущие [этому роду]: ведь и исследуемый род есть предмет одной науки, и исходные положения – предмет одной науки, либо той же самой, либо другой; а потому и привходящие свойства, сами по себе присущие этому роду, должны быть предметом одной науки, все равно, будут ли ими заниматься эти же науки или одна, основанная на них.
Далее, касается ли исследование одних только сущностей или также их привходящих свойств? Я имею в виду, например, если тело есть некая сущность и точно так же линии и плоскости, то спрашивается, дело ли одной и той же науки или разных наук познавать и эти сущности, и принадлежащие каждому такому роду привходящие свойства, относительно которых даются доказательства в математических науках? Если же это дело одной и той же науки, то и наука о сущности будет, пожалуй, некоей доказывающей наукой, а между тем считается, что относительно сути вещи нет доказательства. Если же это дело разных наук, то что это за наука, которая исследует привходящие свойства сущности? Ответить на это крайне трудно. Далее, следует ли признавать существование только чувственно воспринимаемых сущностей или помимо них также другие? И [если также другие], то имеются ли такие сущности только одного вида или их несколько родов, как утверждают те, кто признает Эйдосы и промежуточные предметы, рассматриваемые, по их словам, математическими науками? В каком смысле мы признаем Эйдосы причинами и сущностями самими по себе, об этом было сказано в первых рассуждениях о них. Но при всех многоразличных трудностях [связанных с этим учением] особенно нелепо утверждать, с одной стороны, что существуют некие сущности (physeisi) помимо имеющихся в [видимом] мире, а с другой – что эти сущности тождественны чувственно воспринимаемым вещам, разве лишь что первые вечны, а вторые преходящи. Действительно, утверждают, что есть сам-по-себе-человек, сама-по-себе-лошадь, само-по-себе-здоровье, и этим ограничиваются, поступая подобно тем, кто говорит, что есть боги, но что они человекоподобны. В самом деле, и эти придумывали не что иное, как вечных людей, и те признают Эйдосы не чем иным, как наделенными вечностью чувственно воспринимаемыми вещами.
Далее, если помимо Эйдосов и чувственно воспринимаемых вещей предположить еще промежуточные, то здесь возникает много затруднений. Ведь ясно, что в таком случае помимо самих-по-себе-линий и линий, чувственно воспринимаемых, должны существовать [промежуточные] линии, и точно так же в каждом из остальных родов [математических предметов]; поэтому так как учение о небесных светилах есть одна из таких наук, то должно существовать какое-то небо помимо чувственно воспринимаемого неба, а также и Солнце, и Луна, и одинаково все остальные небесные тела. Но как же можно верить подобным утверждениям? Ведь предположить такое небо неподвижным – для этого нет никаких оснований, а быть ему движущимся совсем невозможно.
То же можно сказать и о том, что исследуется оптикой и математическим учением о гармонии: и оно не может по тем же причинам существовать помимо чувственно воспринимаемых вещей. В самом деле, если имеются промежуточные чувственно воспринимаемые вещи и промежуточные чувственные восприятия, то ясно, что должны быть живые существа, промежуточные между самими-по-себе-живыми существами и преходящими. Но может возникнуть вопрос: какие же вещи должны исследовать такого рода науки? Если геометрия будет отличаться от искусства измерения (geodaisia) только тем, что последнее имеет дело с чувственно воспринимаемым, а первая – с не воспринимаемым чувствами, то ясно, что и помимо врачебной науки (а точно так же и помимо каждой из других наук) будет существовать некая промежуточная наука между самой-по-себе-врачебной наукой и такой-то определенной врачебной наукой. Однако как это возможно? Ведь в таком случае было бы и нечто здоровое помимо чувственно воспринимаемого здорового и самого-по-себе-здорового.
Вместе с тем неправильно и то, будто искусство измерения имеет дело только с чувственно воспринимаемыми и преходящими величинами; если бы это было так, то оно само исчезло бы с их исчезновением.
Но с другой стороны, и учение о небесных светилах не может, пожалуй, иметь дело только с чувственно воспринимаемыми величинами и заниматься лишь небом, что над нами. Действительно, и чувственно воспринимаемые линии не таковы, как те, о которых говорит геометр (ибо нет такого чувственно воспринимаемого, что было бы прямым или круглым именно таким образом; ведь окружность соприкасается с линейкой не в [одной] точке, а так, как указывал Протагор, возражая геометрам); и точно так же движения и обороты неба не сходны с теми, о которых рассуждает учение о небесных светилах, и [описываемые ею] точки имеют не одинаковую природу со звездами.
А некоторые утверждают, что так называемые промежуточные предметы между Эйдосами и чувственно воспринимаемыми вещами существуют, но не отдельно от чувственно воспринимаемых вещей, а в них. Для того чтобы перебрать все несообразности, что вытекают из такого взгляда, потребовалось бы, правда, более подробное рассуждение, но достаточно рассмотреть и следующие. Во-первых, неправдоподобно и то, чтобы дело обстояло таким образом лишь с этими промежуточными предметами; ясно, что и Эйдосы могли бы находиться в чувственно воспринимаемых вещах (к тем и другим ведь применимо то же самое рассуждение); во-вторых, в таком случае было бы необходимо, чтобы два тела занимали одно и то же место и чтобы промежуточные предметы не были неподвижными, раз они находятся в движущихся чувственно воспринимаемых вещах.
Да и вообще ради чего стоило бы предположить, что эти промежуточные предметы существуют, но только в чувственно воспринимаемых вещах? Тогда получатся те же самые нелепости, что и указанные раньше: будет существовать какое-то небо помимо неба, что над нами, только не отдельно, а в том же самом месте; а это в еще большей мере невозможно.
Глава 3
Итак, что касается этих вопросов, то весьма затруднительно сказать, какого взгляда придерживаться, чтобы достичь истины; и точно так же относительно начал – следует ли признать элементами и началами роды или скорее первичные составные части вещей, считать ли, например, элементами и началами звука речи первичные части, из которых слагаются все звуки речи, а не общее им – звук [вообще]; таким же образом и элементами в геометрии мы называем такие положения, доказательства которых содержатся в доказательствах остальных положений – или всех, или большей части. Далее и те, кто признает несколько элементов для тел, и те, кто признает лишь один, считают началами то, из чего тела слагаются и из чего они образовались; так, например, Эмпедокл утверждает, что огонь, вода и то, что между ними, – это те элементы, из которых как составных частей слагаются вещи, но не обозначает их как роды вещей. Кроме того, и в отношении других вещей, например ложа, если кто хочет усмотреть его природу, то, узнав, из каких частей оно создано и как эти части составлены, он в этом случае узнает его природу.
На основании этих рассуждений можно сказать, что роды не начала вещей. Но поскольку мы каждую вещь познаем через определения, а начала определений – это роды, необходимо, чтобы роды были началами и определяемого; и если приобрести знание вещей – значит приобрести знание видов, сообразно с которыми вещи получают свое название, то роды во всяком случае начала для видов. И некоторые из тех, кто признает элементами вещей единое и сущее или большое и малое, также, по-видимому, рассматривают их как роды.
Однако нельзя, конечно, говорить о началах и в том и в другом смысле: обозначение (logos) сущности одно; а между тем определение через роды и определение, указывающее составные части [вещи], разные.
Кроме того, если роды уж непременно начала, то следует ли считать началами первые роды или же те, что как последние сказываются о единичном? Ведь и это спорно. Если общее всегда есть начало в большей мере, то, очевидно, началами будут высшие роды: такие роды оказываются ведь обо всем. Поэтому у существующего будет столько же начал, сколько есть первых родов, так что и сущее и единое будут началами и сущностями: ведь в особенности они сказываются обо всем существующем. А между тем ни единое, ни сущее не может быть родом для вещей. Действительно, у каждого рода должны быть видовые отличия, и каждое такое отличие должно быть одним, а между тем о своих видовых отличиях не могут сказываться ни виды рода, ни род отдельно от своих видов, так что если единое или сущее – род, то ни одно видовое отличие не будет ни сущим, ни единым. Но не будучи родами, единое и сущее не будут и началами, если только роды действительно начала.
Далее, и каждое промежуточное, взятое вместе с видовыми отличиями, должно быть, согласно этому взгляду, родом, вплоть до неделимых [видов] (теперь же некоторое такое промежуточное считается родами, некоторое нет); кроме того, видовые отличия были бы началами в еще большей мере, чем роды; но если и они начала, то, можно сказать, получится бесчисленное множество начал, в особенности если признавать началом первый род.
Если, с другой стороны, единое в большей мере начало, единое же неделимо, а неделимым что бы то ни было бывает или по количеству, или по виду, причем неделимое по виду первое, а роды делимы на виды, то в большей мере единым было бы скорее то, что сказывается как последнее, ибо «человек» не род для отдельных людей.
Далее, у тех вещей, которые имеют нечто предшествующее и нечто последующее, сказываемое о них не может быть чем-либо помимо них самих; например, если первое из чисел – двойка, то не может быть числа помимо видов чисел; и подобным же образом не будет Фигуры помимо видов фигур. А если у них роды не существуют помимо видов, то тем более у других: ведь кажется, что больше всего у них существуют роды. Что же касается единичных вещей, то не бывает одна из них первее другой. Далее, там, где одно лучше, другое хуже, лучшее всегда первое. Поэтому и для таких вещей нет никакого рода [помимо видов].
В силу этого сказываемое о единичном скорее представляется началами, нежели роды. Но с другой стороны, в каком смысле считать это началами, сказать нелегко. Действительно, начало и причина должны быть вне тех вещей, начало которых они есть, т. е. быть в состоянии существовать отдельно от них. А на каком же еще основании можно было бы признать для чего-то подобного существование вне единичной вещи, если не на том, что оно сказывается как общее и обо всем? Но если именно на этом основании, то скорее следует признавать началами более общее; так что началами были бы первые роды.
Глава 4
С этим связан и наиболее трудный вопрос, особенно настоятельно требующий рассмотрения, и о нем у нас пойдет теперь речь. А именно: если ничего не существует помимо единичных вещей, – а таких вещей бесчисленное множество, – то как возможно достичь знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку у них имеется что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее.
Но если это необходимо и что-то должно существовать помимо единичных вещей, то, надо полагать, необходимо, чтобы помимо этих вещей существовали роды – или последние, или первые; между тем мы только что разобрали, что это невозможно.
Далее, если уж непременно существует что-то помимо составного целого, [получающегося], когда что-то сказывается о материи, то спрашивается, должно ли в таком случае существовать что-то помимо всех единичных вещей, или помимо одних существовать, а помимо других нет, или же помимо ни одной. Если помимо единичных вещей ничего не существует, то, надо полагать, нет ничего, что постигалось бы умом, а все воспринимаемо чувствами, и нет знания ни о чем, если только не подразумевать под знанием чувственное восприятие.
Далее, в таком случае не было бы ничего вечного и неподвижного (ибо все чувственно воспринимаемое преходяще и находится в движении). Но если нет ничего вечного, то невозможно и возникновение: в самом деле, при возникновении должно быть что-то, что возникает, и что-то, из чего оно возникает, а крайний [член ряда] (eschaton) должен быть не возникшим, если только ряд прекращается, а из не-сущего возникнуть невозможно. Кроме того, там, где есть возникновение и движение, там должен быть и предел; в самом деле, ни одно движение не беспредельно, а каждое имеет завершение; и не может возникать то, что не в состоянии быть возникшим; а возникшее необходимо должно быть, как только оно возникло.
Далее, если материя есть именно потому, что она невозникшая, то тем более обоснованно, чтобы была сущность – то, чем материя всякий раз становится: ведь если не будет ни сущности, ни материи, то вообще ничего не будет; а так как это невозможно, то необходимо должно существовать что-то помимо составного целого, именно образ или форма.
Но если и принять нечто такое, то возникает затруднение: в каких случаях принять его и в каких нет. Что это невозможно для всего, очевидно: ведь мы не можем принять, что есть некий Дом помимо отдельных домов. И кроме того, будет ли сущность одна у всех, например у всех людей? Это было бы нелепо: ведь все, сущность чего одна, – одно. Так что же, таких сущностей имеется много и они разные? Но и это лишено основания. И притом как же материя становится каждой единичной вещью и каким образом составное целое есть и то и другое – [материя и форма]?
Далее, относительно начал может возникнуть и такое затруднение: если они составляют одно [только] по виду, то ни одно [начало], даже само-по-себе-единое и само-по-себе-сущее, не будет одним по числу. И как будет возможно познание, если не будет чего-либо единого, объемлющего все?
Но если [начала составляют] одно по числу, и каждое из начал – одно, а не так, как у чувственно воспринимаемых вещей – у разных разные начала (например, у тождественных по виду слогов и начала те же по виду, а по числу они, конечно, разные), – так вот, если это не так, [как у чувственно воспринимаемого], а начала вещей составляют одно по числу, то, кроме элементов, ничего другого существовать не будет (ибо нет никакой разницы, сказать ли «единое по числу» или «единичная вещь»: ведь единичным мы называем именно то, что одно по числу, а общим – то, что сказывается о единичных вещах). Поэтому [здесь дело обстоит точно так же], как если бы элементы звуков речи были ограничены по числу, тогда всего букв необходимо было бы столько же, сколько этих элементов, так как не было бы двух или больше одинаковых букв [для одного звука].
Еще один вопрос, не менее трудный, чем другие обойден ныне и прежде, а именно: имеют ли преходящие и непреходящие вещи одни и те же начала или разные? Если начала у тех и других одни и те же, то как это получается, что одни вещи преходящи, а другие непреходящи и какова причина этого? Последователи Гесиода и все, кто писал о божественном, размышляли только о том, что казалось им правдоподобным, а о нас не позаботились. Принимая богов за начала и все выводя из богов, они утверждают, что смертными стали все, кто не вкусил нектара и амброзии, явно употребляя эти слова как вполне им самим понятные; однако их объяснение через эти причины выше нашего понимания. Действительно, если боги ради удовольствия отведывают нектара и амброзии, то это вовсе не значит, что нектар и амброзия – причины их бытия; а если нектар и амброзия суть причины их бытия, то как могут быть вечными те, кто нуждается в пище?
Впрочем, те, кто облекает свои мудрствования в форму мифов, не достойны серьезного внимания; у тех же, кто рассуждает, прибегая к доказательствам, надлежит путем вопросов выяснить, почему, происходя из одних и тех же начал, одни вещи по своей природе вечны, а другие преходящи. А так как причины этого они не указывают, да и не правдоподобно, чтобы дело обстояло так, то ясно, что у этих двух родов вещей не одни и те же начала и причины. Ведь даже Эмпедокл, у которого можно было бы предположить наибольшую последовательность в рассуждениях, допускает ту же ошибку: он, правда, признает некоторое начало как причину уничтожения – вражду, но она, видимо, ничуть не в меньшей мере также и все рождает, за исключением единого, ибо кроме бога все остальное происходит [у него] из вражды. Действительно, Эмпедокл говорит:
Ибо из них все, что было, что есть и что будет:
В них прозябают деревья, из них стали мужи и жены,
Дикие звери, и птицы, и в море живут
Также и боги из них, многочтимые, долгие днями.
Да и помимо этого ясно: если бы вражда не находилась в вещах, все, как сказано у него, было бы единым, ибо когда [элементы] соединились, тогда вражда отступала «к крайним пределам». А потому у него и получается, что бог, который блаженнее всего, менее разумен, чем остальные существа, ибо он не знает всех элементов: ведь он не содержит в себе вражду, а между тем подобное познается подобным.
Землю, – говорит он, – землею мы зрим,
в воду мы видим водою,
Дивным эфиром эфир, огнем же огонь беспощадный,
Также любовью любовь и вражду ядовитой враждою.
С другой стороны, если бы были беспредельны по количеству виды причин, то и в этом случае не было бы возможно познание: мы считаем, что у нас есть знание тогда, когда мы познаем причины; а беспредельно прибавляемое нельзя пройти в конечное время.
Глава 3
Усвоение преподанного зависит от привычек слушателя; какие у нас сложились привычки, такого изложения мы и требуем, и то, что говорят против обыкновения, кажется неподходящим, а из-за непривычности – более непонятным и чуждым, ибо привычное более понятно. А какую силу имеет привычное, показывают законы, в которых то, что выражено в форме мифов и по-детски просто, благодаря привычке имеет большую силу, нежели знание самих законов. Одни не воспринимают преподанного, если излагают математически, другие – если не приводят примеров, третьи требуют, чтобы приводилось свидетельство поэта. И одни хотят, чтобы все излагалось точно, а других точность тяготит или потому, что они не в состоянии связать [одно с другим], или потому, что считают точность мелочностью. В самом деле, есть у точности что-то такое, из-за чего она как в делах, так и в рассуждениях некоторым кажется низменной. Поэтому надо приучиться к тому, как воспринимать каждый предмет, ибо нелепо в одно и то же время искать и звание, и способ его усвоения. Между тем нелегко достигнуть даже и одного из них.
А математической точности нужно требовать не для всех предметов, а лишь для нематериальных. Вот почему этот способ не подходит для рассуждающего о природе, ибо вся природа, можно сказать, материальна. А потому надлежит прежде всего рассмотреть, что такое природа. После этого станет ясным и то, чем занимается учение о природе, ‹есть ли исследование причин и начал дело одной или нескольких наук›.
Книга третья
Глава 1
Для искомой нами науки мы должны прежде всего разобрать, что прежде всего вызывает затруднения; это, во-первых, разные мнения, высказанные некоторыми о началах, и, во-вторых, то, что осталось до сих пор без внимания. А надлежащим образом разобрать затруднения полезно для тех, кто хочет здесь преуспеть, ибо последующий успех возможен после устранения предыдущих затруднений и узел нельзя развязать, не зная его. Затруднение же в мышлении и обнаруживает такой узел в предмете исследования; поскольку мышление находится в затруднении, оно испытывает такое же состояние, как те, кто во что-то закован, – в том и в другом случае невозможно двинуться вперед. Поэтому необходимо прежде рассмотреть все трудности как по только что указанной причине, так и потому, что те, кто исследует, не обращая внимания прежде всего на затруднения, подобны тем, кто не знает, куда идти, и им, кроме того, остается даже неизвестным, нашли ли они то, что искали, или нет: это потому, что для такого человека цель не ясна, тогда как для того, кто разобрался в затруднениях, она ясна. Далее, лучше судит, несомненно, тот, кто выслушал – словно тех, кто ведет тяжбу, – все оспаривающие друг друга рассуждения.
Так вот, первое затруднение относительно тех начал, которые мы разобрали вначале, заключается в том, исследует ли причины одна или многие науки и должна ли искомая нами наука уразуметь только первые начала сущности, или ей следует заниматься и теми началами, из которых все исходят в доказательстве, как, например, выяснить, возможно ли в одно и то же время утверждать и отрицать одно и то же или нет, и тому подобное. И если имеется в виду наука о сущности, то рассматривает ли все сущности одна наука или несколько, и если несколько, то однородны ли они, или же одни следует называть мудростью, а другие – по-иному. И вот что еще необходимо исследовать: существуют ли одни только чувственно воспринимаемые сущности или также другие помимо них, и [если также другие], то имеются ли такие сущности только одного вида или их несколько родов, как полагают те, например, кто признает Эйдосы, а также математические предметы как промежуточные между Эйдосами и чувственно воспринимаемыми вещами. Эти вот вопросы надлежит, как мы утверждаем, рассмотреть, а также вопрос о том, касается ли исследование одних лишь сущностей или также привходящих свойств, которые сами по себе им присущи. Кроме того, относительно тождественного и различного, сходного и несходного, ‹одинаковости› и противоположности, а также предшествующего и последующего и всего тому подобного, что пытаются рассматривать диалектики, исходя лишь из правдоподобного, следует спросить: какой науке надлежит рассмотреть все это? И далее, также относительно привходящих свойств, которые сами по себе им присущи, не только что такое каждое из них, но и противоположно ли одному [лишь] одно. Точно так же, есть ли указанные выше начала и элементы роды или же они составные части, на которые делится всякая вещь? И если они роды, то те ли, что как последние сказываются о единичном (atomos), или первые, например, живое ли существо или человек начало и кому из них бытие присуще в большей мере по сравнению с отдельным существом? Но главным образом нужно рассмотреть и обсудить вопрос: имеется ли кроме материи причина сама по себе или нет, и существует ли такая причина отдельно или нет, а также одна ли она или имеется большее число таких причин? Также: существует ли или нет что-то помимо составного целого (а о составном целом я говорю, когда что-то сказывается о материи) или же для одних вещей существует, для других нет, и [в последнем случае] что это за вещи? Далее, ограниченны ли начала по числу или по виду – и те, что выражены в определениях, и те, что относятся к субстрату, – а также имеют ли преходящее и непреходящее одни и те же начала или различные, и все ли начала непреходящи или же начала преходящих вещей преходящи? Далее, самый трудный и недоуменный вопрос: есть ли единое и сущее, как это утверждали пифагорейцы и Платон, не нечто иное, а сущность вещей, или же это не так, а в основе лежит нечто иное, например, как утверждает Эмпедокл, дружба, а другие указывают: кто – огонь, кто – воду или воздух? И кроме того, есть ли начала нечто общее или они подобны единичным вещам и существуют ли они в возможности или в действительности? И далее, существуют ли они иначе, чем в отношении движения? Ведь и этот вопрос представляет большое затруднение. Кроме того, есть ли числа, линии, фигуры и точки некие сущности или нет, а если сущности, то существуют ли они отдельно от чувственно воспринимаемых вещей или же находятся в них? По всем этим вопросам не только трудно достичь истины, но и нелегко надлежащим образом выяснить связанные с ними затруднения.
Глава 2
Итак, прежде всего надлежит разобрать вопрос, поставленный нами вначале: исследует ли все роды причин одна или многие науки?
С одной стороны, как может быть делом одной науки – познавать начала, если они не противоположны друг другу? И кроме того, многим из существующих вещей присущи не все начала. В самом деле, каким образом может начало движения или благо как таковое существовать для неподвижного, раз все, что есть благо, само по себе и по своей природе есть некоторая цель и постольку причина, поскольку ради него и возникает и существует другое, цель же и «то, ради чего» – это цель какого-нибудь действия, а все действия сопряжены с движением? Так что в неподвижном не может быть ни этого начала, ни какого-либо блага самого по себе. Поэтому в математике и не доказывается ничего через посредство этой причины, и ни в одном доказательстве не ссылаются здесь на то, что так лучше или хуже, да и вообще ничего подобного никому здесь даже на ум не приходит. Вот почему некоторые софисты, например Аристипп, относились к математике пренебрежительно: в остальных искусствах, мол, даже в ремесленнических, например в плотничьем и сапожном, всегда ссылаются на то, что так лучше или хуже, математическое же искусство совершенно не принимает во внимание хорошее и дурное.
С другой стороны, если существуют многие науки о причинах, одна – об одном начале, другая – о другом, то какую из них надо признать искомой нами наукой и кого из тех, кто владеет этими науками, считать наилучшим знатоком искомого предмета? Ведь вполне возможно, что для одного и того же имеются все виды причин; например, у дома то, откуда движение, – строительное искусство и строитель; «то, ради чего» – сооружение; материя – земля и камни; форма – замысел дома (logos). И если исходить из того, что было раньше определено по вопросу, какую из наук следует называть мудростью, то имеется основание называть каждую из этих наук. Действительно, как самую главную и главенствующую науку, которой все другие науки, словно рабыни, не смеют прекословить, следовало бы называть мудростью науку о цели и о благе (ибо ради них существует другое). А поскольку мудрость была определена как наука о первых причинах и о том, что наиболее достойно познания, мудростью надо бы признать науку о сущности. В самом деле, из тех, кто по-разному знает один и тот же предмет, больше, по нашему мнению, знает тот, кто знает, что такое этот предмет по его бытию, а не по его небытию; из тех же, кто обладает таким знанием, знает больше, чем другой, и больше всего тот, кто знает суть вещи, а не тот, кто знает, сколь велика она, или какого она качества, или что она способна по своей природе делать или претерпевать; а затем и в других случаях мы полагаем, что обладаем знанием чего-то, в том числе и того, для чего имеются доказательства, когда нам известно, что оно такое (например, что такое превращение в квадрат: это нахождение средней [пропорциональной]; так же обстоит дело и в остальных случаях). С другой стороны, относительно того или другого возникновения и действия, как и относительно всякого изменения, мы считаем себя знающими, когда знаем начало движения. А оно начало, отличное от цели и противоположное ей. Таким образом, можно подумать, что исследование каждой из этих причин есть дело особой науки.
Равным образом спорен и вопрос о началах доказательства, имеется ли здесь одна наука или больше. Началами доказательства я называю общепринятые положения, на основании которых все строят свои доказательства, например положение, что относительно чего бы то ни было необходимо или утверждение, или отрицание и что невозможно в одно и то же время быть и не быть, а также все другие положения такого рода; так вот, занимается ли этими положениями та же наука, которая занимается сущностью, или же другая, и если не одна и та же, то какую из них надо признать искомой нами теперь? Полагать, что ими занимается одна наука, нет достаточных оснований. Действительно, почему уразумение этих положений есть особое дело геометрии, а не дело какой бы то ни было другой науки? Поэтому если оно в одинаковой мере относится ко всякой отдельной науке, а между тем не может относиться ко всем наукам, то познание этих начал не есть особое дело ни прочих наук, ни той, которая познает сущности.
Кроме того, в каком смысле возможна наука о таких началах? Что такое каждое из них, это мы знаем и теперь (по крайней мере и другие искусства пользуются этими началами как уже известными). А если о них есть доказывающая наука, то должен будет существовать некоторый род, лежащий в основе этой науки, и одни из этих начал будут его свойствами, а другие аксиомами (ибо невозможны доказательства для всего): ведь доказательство должно даваться исходя из чего-то относительно чего-то и для обоснования чего-то. Таким образом, выходит, что все, что доказывается, должно принадлежать к одному роду, ибо все доказывающие науки одинаково пользуются аксиомами.
Но если наука о сущности и наука о началах доказательства разные, то спрашивается: какая из них главнее и первее по своей природе? Ведь аксиомы обладают наивысшей степенью общности и суть начала всего. И если не дело философа исследовать, что относительно них правда и что ложь, то чье же это дело?
И вообще, имеется ли о всех сущностях одна или многие науки? Если не одна, то какую сущность надлежит признать предметом искомой нами науки? Маловероятно, чтобы одна наука исследовала все их; в таком случае существовала бы также одна доказывающая наука о всех привходящих свойствах [этих сущностей], раз всякая доказывающая наука исследует привходящие свойства, сами по себе присущие тому или иному предмету, исходя из общепризнанных положений. Поэтому если речь идет об одном и том же роде, то дело одной науки исходя из одних и тех же положений исследовать привходящие свойства, сами по себе присущие [этому роду]: ведь и исследуемый род есть предмет одной науки, и исходные положения – предмет одной науки, либо той же самой, либо другой; а потому и привходящие свойства, сами по себе присущие этому роду, должны быть предметом одной науки, все равно, будут ли ими заниматься эти же науки или одна, основанная на них.
Далее, касается ли исследование одних только сущностей или также их привходящих свойств? Я имею в виду, например, если тело есть некая сущность и точно так же линии и плоскости, то спрашивается, дело ли одной и той же науки или разных наук познавать и эти сущности, и принадлежащие каждому такому роду привходящие свойства, относительно которых даются доказательства в математических науках? Если же это дело одной и той же науки, то и наука о сущности будет, пожалуй, некоей доказывающей наукой, а между тем считается, что относительно сути вещи нет доказательства. Если же это дело разных наук, то что это за наука, которая исследует привходящие свойства сущности? Ответить на это крайне трудно. Далее, следует ли признавать существование только чувственно воспринимаемых сущностей или помимо них также другие? И [если также другие], то имеются ли такие сущности только одного вида или их несколько родов, как утверждают те, кто признает Эйдосы и промежуточные предметы, рассматриваемые, по их словам, математическими науками? В каком смысле мы признаем Эйдосы причинами и сущностями самими по себе, об этом было сказано в первых рассуждениях о них. Но при всех многоразличных трудностях [связанных с этим учением] особенно нелепо утверждать, с одной стороны, что существуют некие сущности (physeisi) помимо имеющихся в [видимом] мире, а с другой – что эти сущности тождественны чувственно воспринимаемым вещам, разве лишь что первые вечны, а вторые преходящи. Действительно, утверждают, что есть сам-по-себе-человек, сама-по-себе-лошадь, само-по-себе-здоровье, и этим ограничиваются, поступая подобно тем, кто говорит, что есть боги, но что они человекоподобны. В самом деле, и эти придумывали не что иное, как вечных людей, и те признают Эйдосы не чем иным, как наделенными вечностью чувственно воспринимаемыми вещами.
Далее, если помимо Эйдосов и чувственно воспринимаемых вещей предположить еще промежуточные, то здесь возникает много затруднений. Ведь ясно, что в таком случае помимо самих-по-себе-линий и линий, чувственно воспринимаемых, должны существовать [промежуточные] линии, и точно так же в каждом из остальных родов [математических предметов]; поэтому так как учение о небесных светилах есть одна из таких наук, то должно существовать какое-то небо помимо чувственно воспринимаемого неба, а также и Солнце, и Луна, и одинаково все остальные небесные тела. Но как же можно верить подобным утверждениям? Ведь предположить такое небо неподвижным – для этого нет никаких оснований, а быть ему движущимся совсем невозможно.
То же можно сказать и о том, что исследуется оптикой и математическим учением о гармонии: и оно не может по тем же причинам существовать помимо чувственно воспринимаемых вещей. В самом деле, если имеются промежуточные чувственно воспринимаемые вещи и промежуточные чувственные восприятия, то ясно, что должны быть живые существа, промежуточные между самими-по-себе-живыми существами и преходящими. Но может возникнуть вопрос: какие же вещи должны исследовать такого рода науки? Если геометрия будет отличаться от искусства измерения (geodaisia) только тем, что последнее имеет дело с чувственно воспринимаемым, а первая – с не воспринимаемым чувствами, то ясно, что и помимо врачебной науки (а точно так же и помимо каждой из других наук) будет существовать некая промежуточная наука между самой-по-себе-врачебной наукой и такой-то определенной врачебной наукой. Однако как это возможно? Ведь в таком случае было бы и нечто здоровое помимо чувственно воспринимаемого здорового и самого-по-себе-здорового.
Вместе с тем неправильно и то, будто искусство измерения имеет дело только с чувственно воспринимаемыми и преходящими величинами; если бы это было так, то оно само исчезло бы с их исчезновением.
Но с другой стороны, и учение о небесных светилах не может, пожалуй, иметь дело только с чувственно воспринимаемыми величинами и заниматься лишь небом, что над нами. Действительно, и чувственно воспринимаемые линии не таковы, как те, о которых говорит геометр (ибо нет такого чувственно воспринимаемого, что было бы прямым или круглым именно таким образом; ведь окружность соприкасается с линейкой не в [одной] точке, а так, как указывал Протагор, возражая геометрам); и точно так же движения и обороты неба не сходны с теми, о которых рассуждает учение о небесных светилах, и [описываемые ею] точки имеют не одинаковую природу со звездами.
А некоторые утверждают, что так называемые промежуточные предметы между Эйдосами и чувственно воспринимаемыми вещами существуют, но не отдельно от чувственно воспринимаемых вещей, а в них. Для того чтобы перебрать все несообразности, что вытекают из такого взгляда, потребовалось бы, правда, более подробное рассуждение, но достаточно рассмотреть и следующие. Во-первых, неправдоподобно и то, чтобы дело обстояло таким образом лишь с этими промежуточными предметами; ясно, что и Эйдосы могли бы находиться в чувственно воспринимаемых вещах (к тем и другим ведь применимо то же самое рассуждение); во-вторых, в таком случае было бы необходимо, чтобы два тела занимали одно и то же место и чтобы промежуточные предметы не были неподвижными, раз они находятся в движущихся чувственно воспринимаемых вещах.
Да и вообще ради чего стоило бы предположить, что эти промежуточные предметы существуют, но только в чувственно воспринимаемых вещах? Тогда получатся те же самые нелепости, что и указанные раньше: будет существовать какое-то небо помимо неба, что над нами, только не отдельно, а в том же самом месте; а это в еще большей мере невозможно.
Глава 3
Итак, что касается этих вопросов, то весьма затруднительно сказать, какого взгляда придерживаться, чтобы достичь истины; и точно так же относительно начал – следует ли признать элементами и началами роды или скорее первичные составные части вещей, считать ли, например, элементами и началами звука речи первичные части, из которых слагаются все звуки речи, а не общее им – звук [вообще]; таким же образом и элементами в геометрии мы называем такие положения, доказательства которых содержатся в доказательствах остальных положений – или всех, или большей части. Далее и те, кто признает несколько элементов для тел, и те, кто признает лишь один, считают началами то, из чего тела слагаются и из чего они образовались; так, например, Эмпедокл утверждает, что огонь, вода и то, что между ними, – это те элементы, из которых как составных частей слагаются вещи, но не обозначает их как роды вещей. Кроме того, и в отношении других вещей, например ложа, если кто хочет усмотреть его природу, то, узнав, из каких частей оно создано и как эти части составлены, он в этом случае узнает его природу.
На основании этих рассуждений можно сказать, что роды не начала вещей. Но поскольку мы каждую вещь познаем через определения, а начала определений – это роды, необходимо, чтобы роды были началами и определяемого; и если приобрести знание вещей – значит приобрести знание видов, сообразно с которыми вещи получают свое название, то роды во всяком случае начала для видов. И некоторые из тех, кто признает элементами вещей единое и сущее или большое и малое, также, по-видимому, рассматривают их как роды.
Однако нельзя, конечно, говорить о началах и в том и в другом смысле: обозначение (logos) сущности одно; а между тем определение через роды и определение, указывающее составные части [вещи], разные.
Кроме того, если роды уж непременно начала, то следует ли считать началами первые роды или же те, что как последние сказываются о единичном? Ведь и это спорно. Если общее всегда есть начало в большей мере, то, очевидно, началами будут высшие роды: такие роды оказываются ведь обо всем. Поэтому у существующего будет столько же начал, сколько есть первых родов, так что и сущее и единое будут началами и сущностями: ведь в особенности они сказываются обо всем существующем. А между тем ни единое, ни сущее не может быть родом для вещей. Действительно, у каждого рода должны быть видовые отличия, и каждое такое отличие должно быть одним, а между тем о своих видовых отличиях не могут сказываться ни виды рода, ни род отдельно от своих видов, так что если единое или сущее – род, то ни одно видовое отличие не будет ни сущим, ни единым. Но не будучи родами, единое и сущее не будут и началами, если только роды действительно начала.
Далее, и каждое промежуточное, взятое вместе с видовыми отличиями, должно быть, согласно этому взгляду, родом, вплоть до неделимых [видов] (теперь же некоторое такое промежуточное считается родами, некоторое нет); кроме того, видовые отличия были бы началами в еще большей мере, чем роды; но если и они начала, то, можно сказать, получится бесчисленное множество начал, в особенности если признавать началом первый род.
Если, с другой стороны, единое в большей мере начало, единое же неделимо, а неделимым что бы то ни было бывает или по количеству, или по виду, причем неделимое по виду первое, а роды делимы на виды, то в большей мере единым было бы скорее то, что сказывается как последнее, ибо «человек» не род для отдельных людей.
Далее, у тех вещей, которые имеют нечто предшествующее и нечто последующее, сказываемое о них не может быть чем-либо помимо них самих; например, если первое из чисел – двойка, то не может быть числа помимо видов чисел; и подобным же образом не будет Фигуры помимо видов фигур. А если у них роды не существуют помимо видов, то тем более у других: ведь кажется, что больше всего у них существуют роды. Что же касается единичных вещей, то не бывает одна из них первее другой. Далее, там, где одно лучше, другое хуже, лучшее всегда первое. Поэтому и для таких вещей нет никакого рода [помимо видов].
В силу этого сказываемое о единичном скорее представляется началами, нежели роды. Но с другой стороны, в каком смысле считать это началами, сказать нелегко. Действительно, начало и причина должны быть вне тех вещей, начало которых они есть, т. е. быть в состоянии существовать отдельно от них. А на каком же еще основании можно было бы признать для чего-то подобного существование вне единичной вещи, если не на том, что оно сказывается как общее и обо всем? Но если именно на этом основании, то скорее следует признавать началами более общее; так что началами были бы первые роды.
Глава 4
С этим связан и наиболее трудный вопрос, особенно настоятельно требующий рассмотрения, и о нем у нас пойдет теперь речь. А именно: если ничего не существует помимо единичных вещей, – а таких вещей бесчисленное множество, – то как возможно достичь знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку у них имеется что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее.
Но если это необходимо и что-то должно существовать помимо единичных вещей, то, надо полагать, необходимо, чтобы помимо этих вещей существовали роды – или последние, или первые; между тем мы только что разобрали, что это невозможно.
Далее, если уж непременно существует что-то помимо составного целого, [получающегося], когда что-то сказывается о материи, то спрашивается, должно ли в таком случае существовать что-то помимо всех единичных вещей, или помимо одних существовать, а помимо других нет, или же помимо ни одной. Если помимо единичных вещей ничего не существует, то, надо полагать, нет ничего, что постигалось бы умом, а все воспринимаемо чувствами, и нет знания ни о чем, если только не подразумевать под знанием чувственное восприятие.
Далее, в таком случае не было бы ничего вечного и неподвижного (ибо все чувственно воспринимаемое преходяще и находится в движении). Но если нет ничего вечного, то невозможно и возникновение: в самом деле, при возникновении должно быть что-то, что возникает, и что-то, из чего оно возникает, а крайний [член ряда] (eschaton) должен быть не возникшим, если только ряд прекращается, а из не-сущего возникнуть невозможно. Кроме того, там, где есть возникновение и движение, там должен быть и предел; в самом деле, ни одно движение не беспредельно, а каждое имеет завершение; и не может возникать то, что не в состоянии быть возникшим; а возникшее необходимо должно быть, как только оно возникло.
Далее, если материя есть именно потому, что она невозникшая, то тем более обоснованно, чтобы была сущность – то, чем материя всякий раз становится: ведь если не будет ни сущности, ни материи, то вообще ничего не будет; а так как это невозможно, то необходимо должно существовать что-то помимо составного целого, именно образ или форма.
Но если и принять нечто такое, то возникает затруднение: в каких случаях принять его и в каких нет. Что это невозможно для всего, очевидно: ведь мы не можем принять, что есть некий Дом помимо отдельных домов. И кроме того, будет ли сущность одна у всех, например у всех людей? Это было бы нелепо: ведь все, сущность чего одна, – одно. Так что же, таких сущностей имеется много и они разные? Но и это лишено основания. И притом как же материя становится каждой единичной вещью и каким образом составное целое есть и то и другое – [материя и форма]?
Далее, относительно начал может возникнуть и такое затруднение: если они составляют одно [только] по виду, то ни одно [начало], даже само-по-себе-единое и само-по-себе-сущее, не будет одним по числу. И как будет возможно познание, если не будет чего-либо единого, объемлющего все?
Но если [начала составляют] одно по числу, и каждое из начал – одно, а не так, как у чувственно воспринимаемых вещей – у разных разные начала (например, у тождественных по виду слогов и начала те же по виду, а по числу они, конечно, разные), – так вот, если это не так, [как у чувственно воспринимаемого], а начала вещей составляют одно по числу, то, кроме элементов, ничего другого существовать не будет (ибо нет никакой разницы, сказать ли «единое по числу» или «единичная вещь»: ведь единичным мы называем именно то, что одно по числу, а общим – то, что сказывается о единичных вещах). Поэтому [здесь дело обстоит точно так же], как если бы элементы звуков речи были ограничены по числу, тогда всего букв необходимо было бы столько же, сколько этих элементов, так как не было бы двух или больше одинаковых букв [для одного звука].
Еще один вопрос, не менее трудный, чем другие обойден ныне и прежде, а именно: имеют ли преходящие и непреходящие вещи одни и те же начала или разные? Если начала у тех и других одни и те же, то как это получается, что одни вещи преходящи, а другие непреходящи и какова причина этого? Последователи Гесиода и все, кто писал о божественном, размышляли только о том, что казалось им правдоподобным, а о нас не позаботились. Принимая богов за начала и все выводя из богов, они утверждают, что смертными стали все, кто не вкусил нектара и амброзии, явно употребляя эти слова как вполне им самим понятные; однако их объяснение через эти причины выше нашего понимания. Действительно, если боги ради удовольствия отведывают нектара и амброзии, то это вовсе не значит, что нектар и амброзия – причины их бытия; а если нектар и амброзия суть причины их бытия, то как могут быть вечными те, кто нуждается в пище?
Впрочем, те, кто облекает свои мудрствования в форму мифов, не достойны серьезного внимания; у тех же, кто рассуждает, прибегая к доказательствам, надлежит путем вопросов выяснить, почему, происходя из одних и тех же начал, одни вещи по своей природе вечны, а другие преходящи. А так как причины этого они не указывают, да и не правдоподобно, чтобы дело обстояло так, то ясно, что у этих двух родов вещей не одни и те же начала и причины. Ведь даже Эмпедокл, у которого можно было бы предположить наибольшую последовательность в рассуждениях, допускает ту же ошибку: он, правда, признает некоторое начало как причину уничтожения – вражду, но она, видимо, ничуть не в меньшей мере также и все рождает, за исключением единого, ибо кроме бога все остальное происходит [у него] из вражды. Действительно, Эмпедокл говорит:
Ибо из них все, что было, что есть и что будет:
В них прозябают деревья, из них стали мужи и жены,
Дикие звери, и птицы, и в море живут
Также и боги из них, многочтимые, долгие днями.
Да и помимо этого ясно: если бы вражда не находилась в вещах, все, как сказано у него, было бы единым, ибо когда [элементы] соединились, тогда вражда отступала «к крайним пределам». А потому у него и получается, что бог, который блаженнее всего, менее разумен, чем остальные существа, ибо он не знает всех элементов: ведь он не содержит в себе вражду, а между тем подобное познается подобным.
Землю, – говорит он, – землею мы зрим,
в воду мы видим водою,
Дивным эфиром эфир, огнем же огонь беспощадный,
Также любовью любовь и вражду ядовитой враждою.