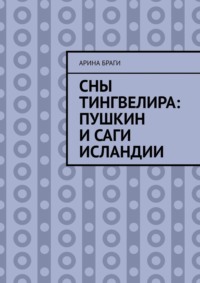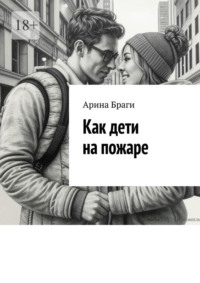Гиппокамп: территория любви

Гиппокамп: территория любви
Арина Браги
АРИНА БРАГИ
© Арина Браги, 2025
ISBN 978-5-0065-1192-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ГИППОКАМП: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
1
СКАЛА КИХОЛ: ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА. МАРТ 2018-го
Мы все поступаем так. Смотрим на нашу жизнь сквозь замочную скважину. Это очень ограниченный взгляд. Мы многое придумываем.
Из фильма «Цвет ночи» (Color of Night, 1994)
Она аккуратно вкрутила правую бутсу между косыми выступами базальта на склоне, а ребристую подошву левой вдавила в валун на вывихе тропы. Вдохнула колючий – слишком уж свежий – ветер с перевала.
Уфф… Вот он, Кихол. Дыра в скале. Скважина в замке, а ключ от горы Лонгс-Пик – Маттерхорн здешний. Последняя миля к вершине. По уступам. Почти отвесно. Полнолуние, тени резковаты.
Новые, но уже разбитые по ноге тяжелые горные ботинки Salomon шершавыми утюгами надежно втиснулись в гранит. Она крепко сидела в щели гранитов. Как на якоре. Как молекула нашего нового белка памяти в щели синапсов нейронов в гиппокампе. Глубже ввернула плечи в расщелину ледяной скалы, правой перчаткой с обрезанными пальцами – мох кольнул морозом – угнездилась ладонью в карман пещерки, затылком каски прижала торф. Обрадовала спину пружиной рюкзака. Левой рукой придержала железо карабинов у пояса, помедлила и откачнула их тяжелый маятник. Скала отозвалась.
Треснувшие колокольчики. Ха! Идиотку ничего не берет! Многоголосье. Тона скачут вверх по скале и дребезжат. Качается гигант – это живой камень – чуть ушла с маршрута.
Расстегнув перчатку, взглянула на экран смарт-часов. Геотег «Скала самоубийц».
Кихол они так назвали! Вполне в тему. Высота, да, тринадцать тысяч футов с небольшим. Два часа ночи. По времени успеваю. Сумею передохнуть. А ключик наверху, на плоской лысине Лонгс-Пика. Теперь самое вкусное. С веревками.
Огляделась. Головной фонарь высветил рядом табличку на стальной ноге. Смахнула снег – жирные красные буквы, ими рейнджеры прикрывают свои задницы. Скалолазы – народ отвязный, их послание звучит убедительно:
«Не уверен – не лезь. Начало маршрута на вершину Лонгс-Пик. Узкие уступы, отвесные плиты и камнепад, ураганные порывы, экстремальный мороз и лед. Легко поскользнуться и сорваться. Спасение затруднено и займет несколько дней. Безопасность – ваша ответственность».
Она подняла голову – свет фонарика уперся в выступ скалы над ней, а в глаза сквозь зубья гигантского пролома ударил прозрачный цилиндр прожектора полнолуния. За те пару часов, что она пробивалась по снегу между голыми стволами карликовых сосен, обходя западный склон, луна успела всплыть над восточным, и она пропустила главное событие нынешнего марта – кровавый восход гигантского диска над кристаллом горы. Сейчас лунный окрас перешел в зеленоватый спектр и наполнял болотной взвесью ущелье под ногами. Скаласамоубийц обрывалась в двухмильную пропасть. Прошлым летом туда ступил, окончив борьбу с раком, Дик Дарье, ее напарник на многих скальных маршрутах и муж аспирантки Сюзанны. Спасатели даже не показали женщинам ошметки тела, которые надо было соскребать с камней. «Страшная картина, вам ни к чему». Им выдали урну. Потом, ранней осенью, в его день рождения, небольшой отряд друзей развеял прах. Здесь, у дурацкой таблички, что не спасла.
Ее опять охватила ярость. Она, как всегда в последние пару месяцев, думая о трагедии, произошедшей с Дарье, остро ощутила присутствие своего давнего любовника Эрика Вайса. Эрик разорвал с ней отношения двадцать лет назад, сразу после окончания аспирантуры в Университете Рифа, когда она только начинала там свою карьеру. Эрик вдруг вновь странно возник в ее нынешней, далекой от него жизни.
Эрик, я здесь ночью не потому, что сошла с ума. Край у меня, конец не только для меня, но и для всех ребят моей лаборатории. Нас предали. Бывшая питерская начальница слила наши данные конкурентам. Грант провис. Спасет ночное восхождение. Соло. Увижу рассвет с Саммита – и все наладится. Блажь, конечно. Разряженный воздух. Смейся, но я здесь по совету Черной Матушки. Помнишь, она пришла ко мне в коридоре нашей тогдашней лаборатории в Нью-Йорке? В ночь Хэллоуина, когда мы вместе с тобой срочно гнали эксперимент для нашего шефа, Джона Вейдера. Явилась она ко мне и сюда. Гадала по книге первых свободных черных. Черная Матушка поможет. В каждой лаборатории, ты знаешь, как на корабле, свои приметы. А у нас эта: мы влезаем в мозг и гоняемся за механизмами памяти, ускользающими к чертям собачьим. И приметы наши чертовы. Здесь, в горах, где надо отщелкнет – и отстегнется нам этот грант, и моя лаборатория спасена.
Она раскрыла глотку: «Черная Матушка! Помоги!» И накрыло эхо: «…моги …оги …ги», и она поняла, что орет. Утерла холодные слезы с губ. Чуть утихла и вздрогнула всей кожей. На уровне глаз возник черный силуэт – огромный горный ворон закрыл припорошенную голубым скалу напротив и пропал. Птица еще и обругала ее по дороге в ущелье возмущенным кар-кар-кар. «И я тебя люблю», – огрызнулась в ответ. Внизу – пропасть, вверху, за рваной дырой Кихола, – ветры на ребрах скал и вершина-убийца, которую сто пятьдесят лет назад первая женщина-альпинистка назвала американским Маттерхорном и покорила.
Как там в мудром дзене? Хватит смотреть сквозь замочную скважину!
В аэродинамической трубе ущелья ранняя весна все еще держится за ледяные корки на лужах северной стороны тропы. Анна закоченела в легкой ветровке, но она знала, что скоро морозный ветер станет приятным. Скоро в ней поднимется внутренняя волна жара – первые симптомы ранней менопаузы стали накрывать ее этой зимой. Она использовала этот «подарок судьбы» и тогда, когда мчалась в мороз по спуску на горных лыжах в облегающем комбинезоне, и сейчас, на этом восхождении.
Смешно начались ее приливы. Она сидела в своем офисе, написав грант, и вдруг почувствовала, что отключился центральный кондиционер. Она выскочила в коридор, ожидая увидеть привычную в таких случаях толпу возмущенной профессуры. В их новеньком корпусе много чего поначалу не ладилось: то пожарная сирена включалась каждые полчаса, то из кондиционера дуло ледяным ветром, то в туалете из сливного бачка бил кипяток. Но тут все люди спокойно сидели в своих офисах, двери по неписаному закону не закрывали. И она поняла…
Взойти на вершину Лонгс-Пика – самого необычного четырнадцатитысячника в Скалистых горах – должен был каждый маломальский скалолаз из университетской секции. Ночное же восхождение и первый луч солнца с гигантского кристалла длинной вершины точно откроют все чакры и принесут удачу. А сорвать джекпот – вырвать у конкурентов престижный грант – было крайне необходимо. Иначе ее лабораторию закроют, и последние прорывные неопубликованные эксперименты – чудом не доставшиеся конкурентам – пропадут. Это будет конец ее карьере и научному будущему ребят из ее команды.
Из-за этого она и стоит сейчас здесь, под скалой Кихол. Из-за этого, обычно прижимистая, она потратилась на крутой головной фонарь. Из-за этого, разумная и все просчитывающая, – стыдно сказать – поверила снам-пророчествам Черной Матушки и погибшей подруги Нэнси. Обе они утверждали в двух разных снах, что ночным сольным восхождением она добудет победу.
Ладно еще Черная Матушка – призрак, фантом. Но как не поверить подруге Нэнси Барр, про которую двадцать лет назад Эрик говорил, что она как монета с четырьмя сторонами, как старая душа, как добрая ведьма. Эрик… Опять он…
Сердце пропустило удар, нога в крепком ботинке дрогнула, и ребристая подошва застряла в щели между вертикальными тонкими ребрами выхода базальта на тропе.
Сейчас нельзя думать о нем. Главное сейчас – грант. Родина или смерть, это идут барбудос!
Она зло утерла сопли.
Как я живу последние месяцы? Стыд разъедает до костей, будто сидишь по горло в зловонной выгребной яме. Коллеги – главы других лабораторий – не смотрят в глаза ни в коридоре, ни на еженедельных летучках. Матерые профессора откусывают по кусочкам ценные квадратные метры лаборатории, а молодые новобранцы уже заглядываются на ее офис, недоумевая: «Чего ждет руководство? Пора бы ей перетаскать свои манатки в угловой офис». Сдулась комета из Рифа! Лузеру ни к чему ни ярость ультрафиолета в окна до пола, ни рвань горизонта Скалистых гор!
Стыд обернулся ностальгией – спасением в облаке смрада. Ушла вся кровь. Сердце прокачивало сквозь ее артерии кипящую ядовитую смесь возрожденной страсти, нежности и тоски по ароматному телу молодого Эрика. Тоска по потерянным годам, которые у них были бы с Эриком, если бы не их обоюдное предательство любви из-за карьеры. Да и расовая разница. Она всегда отгоняла мысль: если случится невозможное счастье и они будут жить вместе, как представить мужа-китайца родственникам в Питере? Да и он, конечно, от страшной гордости не хотел брака с белой.
Во сне Нэнси гадала по столетнему изданию книги Рамона Кахаля, безжалостного бога нейробиологов. Буквы, выбранные из разных страниц сложным способом, сложились во фразу: «поднимись… Саммит… Лонгс-Пик… ночь полнолуния… исправишь судьбу… получишь награду».
Запищали часы на руке, показывая пять процентов батареи, а в смартфоне отключился навигатор. Она вдруг импульсивно нажала номер Эрика: терять ей нечего – погибать, так с музыкой. Он, разбуженный посреди ночи в пяти тысячах миль от нее, отозвался таким молодым радостным голосом, как будто бы всегда ждал ее звонка.
Но вернемся назад и пройдем с Анной Усольцевой ее двадцатилетний путь завоевания Америки, который привел ее сейчас к обрыву под скалой Кихол.
АННА. ДНЕВНИК. МАРТ 1998-го
Любовь всегда сплетена из взаимоисключающих вещей – тонкой лжи и оголенной искренности, боязни причинить боль и нарочным нанесением душевных травм. Расправившее крылья чувство неподвластно хозяину, оно манкирует гордостью, нормами приличия и здравым смыслом.
Из фильма «Любовники» (Two Lovers, 2008)
Экстаз любовной страсти во времена Бернини переживался как чувственно неделимый опыт и тела, и души.
Саймон Шама «Экстаз Святой Терезы Бернини» (2018)
Что другим не нужно – несите мне: Всё должно сгореть на моём огне!
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В лёгкий дар моему огню.
Пламень любит лёгкие вещества: Прошлогодний хворост – венки – слова…
Пламень пышет с подобной пищи!
Вы ж восстанете – пепла чище!
И т. д. Но я бы взяла, пожалуй, так:
Что другим не нужно – несите мне: Всё должно сгореть на моём огне!
<…>
Пламень любит лёгкие вещества: Прошлогодний хворост – венки – слова…
Пламень пышет с подобной пищи!
Марина Цветаева
Тогда они не ведали, что с ними происходит. Не понимали, что муки их тяжелой страсти вызывают любовный экстаз. Такой экстаз показал Бернини в святом Лаврентии, покровителе всех поваров, охваченном огнем. Разрушающая мощь любовного пламени была внове обоим. Как дети на пожаре, они не понимали ни самих себя, ни этого божественного экстаза. Любовная страсть уносила их в сумрачный лес Данте.
Последний день Эрика в лаборатории. Он повторял и повторял, что они не могут быть вместе, что это опасно для его будущего: он все поставил на карту, чтобы добиться успеха в профессии. Нес полный бред, не веря в него, не слыша себя. Все шло в ход: и бывшая пассия десятилетней давности, и нынешняя симпатия (у которой, впрочем, есть бойфренд). Он говорил, что смог бы от нее, Ани, убежать. А от себя как убежать?! Но экстаз был сильнее каждого из них. Молодая страсть – оба не знали такого раньше – соединила их тела и души. Страсть была единственной правдой их отношений, прорывалась из темных, тайных глубин подсознания и стягивала их в тугой узел. Страсть, как огонь, питалась всем. Все шло в топку: их взаимная любовь и нежность, родство душ, новизна открывшейся чувственности, интеллектуальное равенство и острое предпочтение друг друга перед остальными. Земля уходила из-под ног – и души их парили в вечности, оставляя слитые тела Ани и Эрика в его маленькой квартире на шестом этаже, где по утрам было слышно пение птиц.
Она остро помнила счастье, с каким летела в марте 1997 года на интервью из Петербурга в Нью-Йорк. Сказочные возможности, мечты. Потом счастье сконцентрировалось, уплотнившись до чего-то невозможного.
Аня жила одна в Мегаполисе и работала в аспирантуре научной лаборатории. Начала с нуля, как неумейка. Ее пестовали, холили, лелеяли. И восхищались ею. Эрик Вайс, скованный и очень глубокий китаец, аспирант последнего года, пас Аню как свою единственную лаб-бэби. Она все несла к нему, все проблемы решала с ним; он это принимал как должное. Думалось, что вся его жизнь была прологом до нее, кометы, озарившей его жизнь. И сама она росла каждый день, еще ничего не понимая, но уже многое умея.
Было и первое горе, придуманное ею, но по-настоящему тяжелое – от неудачного свидания с Эриком в Метрополитен-музее.
Было и счастье ожидания его на теплой скале перед театром Шекспировского фестиваля в Центральном парке.
А однажды, в субботу, он пришел с корта в линзах и шортах, и она даже отошла от него в панике.
В общем, любовь-смута, работа-счастье и, наконец, «мы – это мы».
Было и нежное прощание Эрика с ней перед расставанием на неделю, перед его отлетом в Калифорнию, на конференцию. Он, говоря по телефону, взял ее руку, нежно перебирал пальцы и, закончив говорить, руки не выпустил, – так и сидели. Потом целовались у фонтана, красота которого спрятана от улицы, как были спрятаны и они, тайные влюбленные.
А потом – разлука, когда ничего не было, только телефон, держащий ее на незримом коротком поводке. Он не застал ее, когда все же позвонил однажды. Ожидание, желание просто прижаться к нему при встрече и стоять, навеки замерев. И вот он идет к ней по коридору: любимый, долговязый, похорошевший; она выдохнула тогда: «Мой!».
Все это она помнила так, будто вчера случилось.
Помнила и раскованность Эрика на короткий срок, когда посылал ей воздушные поцелуи. И когда при прощании на ночь поцеловал страстно, с языком. И его «люблю» в декабре. И признание, что никогда ее не забудет. И его счастье, что у него есть тайная герлфренд, и его грусть: никому не скажешь, никто не поймет. И наконец, Рождество, горькое, разрывное, когда Эрик пытался расстаться с ней. И коньки: встала и с горя научилась кататься. Вот был кайф! Еще и от того, что освоила новое.
В Новый год они сказали друг другу: все, что было с ними, – для каждого во благо и счастье. Она тогда покорилась судьбе – останемся друзьями, раз так хочет.
А потом – его слезы: он не может без нее, и любит, и хочет все вернуть.
В январе 1998-го он защищал диссертацию. Тогда она купила себе обнову – брюки-дудочки. «У меня событие! Эрик защищается!» И была хороша в них – девочка-подросток, в его вкусе. В ресторане, когда подавал ей пальто, он был раскован. А рассказывая всем, как готовился к защите всю ночь, только утром вернулся домой, взглянул на свою кровать, хотел лечь, но побоялся проспать, он смотрел на нее через стол. И у обоих в этот момент одинаковая мысль: «Это о нас! О нашей кровати!»
Через два дня после защиты он пришел в лабораторию. Это был понедельник, выходной.
– Пошли на каток, – сказала Аня.
Он ответил:
– Холодно.
– Пошли! – настаивала она, не зная, что он «держал за пазухой».
Он приготовил ей романтический ужин. Они сидели за его столом со свечами, когда Эрик спросил:
– Что же ты нарисовала обо мне, что ты не хотела показывать?
– Ну, нарисовала и написала, что ты любишь диссер больше, чем твою бэби.
Они засмеялись. Эрик сказал:
– Теперь я люблю мою бэби больше, чем диссер.
И наконец, его день рождения, а затем, в конце марта, разрыв – окончательный. С нежностью, любовью, но разрыв.
– Если бы тебе было бы не двадцать семь, а двадцать три, у нас могло бы быть будущее. – И полный бред: – Я люблю Карлу, мне тепло у сердца, когда она рядом, и я понимаю разницу.
Аня увидела ее незадолго до этого разговора, на его лекции. Карла – его одногруппница (и кстати, у нее есть постоянный бойфренд), зашла в зал и села впереди. Аня стала изучать Карлу, стараясь особо не пялиться, и вдруг почувствовала, как Эрик через весь зал смотрит прямо на нее, Аню, и было очевидно, что ему это почему-то важно: не Карла, а то, как Аня на нее смотрит! Когда они встретились через два дня и она спросила, хочет ли он знать, что она думает о Карле, он будто ждал этого вопроса – напрягся, выпрямился, стал пристально смотреть на нее. Она набрала воздуха и сказала:
– Карла очень приятная, очень серьезная.
Он перебил:
– Очень некрасивая…
– Ах, зачем ты так!
Он продолжил:
– Но для меня все равно очень привлекательная.
Следующим утром, только проснулась, Аня вспомнила эту его фразу и поняла, что не может жить – умирает. А вечером в темной лаборатории, когда они целовались, ее опрокинуло утреннее воспоминание о его словах о Карле: «для меня все равно очень привлекательная» – и Аня вновь почувствовала, что умирает. Полились слезы ручьем – Cry Me A River – а ведь никогда при нем не плакала!
Эрик почувствовал губами ее слезы на одном глазу, потом на другом – стал целовать.
– Как же так, я была с тобой, я твоя любимая и любовница, а ты говоришь, я не привлекательна для тебя.
– O нет, ты всегда была для меня очень-очень, – страстно шептал Эрик.
Последняя неделя Эрика в аспирантуре лаборатории – неделя безумия, любви к Ане и тоски из-за разрыва с лабораторией и с ней. Две их ночи (впервые до самого утра), подряд. Уже в апреле. И все.
– Я не могу жениться на тебе. И не могу быть с тобой еще один год, вдруг ты захочешь продолжения.
И затем разрыв уже до конца. И горе, такое глубокое. Такая тоска. На миг пронеслось: «Зачем жить? Надо. Но зачем? Без него?» Долгий путь через эту тоску по нему, по ним вместе. Она даже не могла делать электроды – это его место, куда он ее поставил.
Она помнит день, когда выбросила все пустые коробки с верхних шкафов их комнаты – общего с ним дома, как ощущалось тогда. Эти коробки Эрик собирал. Коробки помнили его слова. И все о них. Их обряд прощания на ночь. Их обряд, когда они говорили «спасибо» или хвалили друг друга: «молодец!» – в основном Эрик хвалил Аню – с поцелуем.
Она ощущала себя с ним как в детстве с отцом. И она помнит его злость – после апреля до июня – «Я не отец тебе!»
И только открытые операции на мозге крыс – только! – не он учил делать, и не больно только это. Ощущение, что все пропитано им, все получено из его рук.
Она помнит робкие приходы Эрика к ней в лабу. Вообще-то частые, но тогда из-за мучительных ожиданий казалось – редкие.
Долгий путь горя. Но ушел не к кому-то, и помнил, и любил ее – она знала! Это было чистое горе, без унижения и потери себя. Ничего не сделал, что отозвалось бы в ней болью.
Она помнит, как шла по улице осеннего – ее сезон! – Вашингтона на утреннее заседание конференции, и вдруг тихо, крепко-крепко мысль: «Мы с ним навеки! Я с ним навеки! Хотя расстались, и ничего не будет больше. Но я с ним навеки».
Это была спокойная мысль, даже умиротворенная. Как тихое счастье всего ее пребывания в Вашингтоне. И потом, после Вашингтона, в ресторане с ним и завлабом Джоном Вейдером, после шести месяцев разрыва, робкая реплика Эрика, прерванная им самим на полуслове, о сломанной сережке. Заметил! И смутился от того, что заметил.
Аня накануне говорила любимой подруге Нэнси Барр:
– Он мне ее всегда чинил. Теперь, когда его нет, и чинить не стану. Буду ходить со сломанной!
В конце мая 1998 года Аня видела Эрика в последний раз. Это был общий прощальный ланч для всей лаборатории. Просто общий глупый треп. Он ничего не сказал ей лично, она ему – ничего, но отметила про себя, что Эрик все так же очень привлекателен для нее. Повадка, походка, манера двигаться, нижняя часть лица, губы и кожа рук. И Аня была – старалась быть – красивой.
Теперь она с ненавистью смотрит на свои ноги. Кому они нужны! И больше никогда не увидимся, не поговорим. Что же, многие теряют любимых, не успев поговорить, вот и я тоже.
Был, правда, взгляд Эрика через зал ресторана, когда Анна шла от телефона к столу. И это все. И руки не пожал, не поцеловал перед вечной разлукой.
Ну и ладно. Он дал мне многое. Я даже этот поганый диссер пишу, только чтобы стать с ним вровень. Да, он во многом мне помог. Обрадовался, что посвящу диссер ему. А может, и не посвящу! Посмотрим. Он – последнее яркое событие в моей жизни. Дальше – муть и серость.
В конце ноября 1997-го, когда Анна входила в воды тайфуна Гордона в Майями, на другой конференции, ей вдруг пришла мысль, совершенно неожиданная, не связанная с мыслями об акулах: раз он не попрощался со мной, значит, мы еще не расстались.
Это было неожиданно: такое понимание их слитности и неразлучности оттого, что не простились, не сказали друг другу «прощай навеки». И вторая мысль – уже в конце декабря – пришла к ней в книжном магазине, когда увидела красочный виммельбух «Новый год в Мегаполисе». Открыла посередине. На развороте – синяя ночь, спящая улица и снег. И все так же, как в один из вечеров, когда они бродили вместе по городу. Она тут же купила эту детскую книжку для него. Почему? Ведь всегда боялась дарить ему что-то. Но здесь как будто всё об их чувстве, ощущении Мегаполиса, хотя ни одной картинки, которая бы в точности говорила о них самих. Она долго не решалась послать виммельбух Эрику. Но наступило время для новогодних открыток близким, Аня вспоминала старых друзей – расслабилась. Сделала пакет и для него. Как раз вышли ее статьи и его (проклятая!) методическая. Она отправила книжку – как в воду кинула. И неожиданно пришел нежный ответ:
«Дорогая моя, спасибо тебе огромное за твой подарок. Он напоминает мне о некоторых очень счастливых днях из прошлого. Я надеюсь, что у тебя будет счастливый праздничный сезон. Я очень скучаю по Мегаполису и лаборатории. Надеюсь увидеть тебя и остальных в следующем году. С наилучшими новогодними пожеланиями».
Да. Эта книга вызвала те же чувства и у Эрика, добавив еще одну каплю к его ностальгии по Мегаполису. И он тоже вспомнил об их первом Рождестве. Горьком и разрывном, как казалось тогда. Ничего ведь не исчезает! Тогда оба думали, что это было горькое Рождество, но теперь помнят его как счастливый вечер.
Любимая подруга Нэнси понимала Аню, как никто другой. И сказала про тогдашнее фото: «Взгляд такой, будто ты получила то, чего никогда не имела в жизни».
И это правда. Гармония работы, творчества и личного счастья, здоровья нравственного и физического, ощущение полета – такого у Анны за всю ее взрослую жизнь, до Эрика, не было. Жалко, что все это было направлено, наверное, не на того человека. Что не продолжилось счастливой жизнью, хотя бы несколькими годами.
Они были как дети на пожаре. Оба!
Да, тяжело пройти все и расстаться. А как светло и радостно начиналась ее аспирантура почти год назад в Нью-Йорке!
Альбатрос – птица жадная. Из дневника Ани. Апрель 1997-го
– Каким путем мне идти?
– Куда ты идешь?
– Ну, я не знаю!
– Тогда любой путь приведет тебя туда.
Из телесериала «Баффи – истребительница вампиров» (1997)
Перелетая на вертолете пролив с неправильным названием Ист-Ривер – Восточная река – от Бруклина к устью Тридцать четвертой улицы Манхэттена, вы этого устья не увидите. Тридцать четвертая ныряет под путепровод прибрежного хайвея, не успевает опомниться, как утыкается в просевшие бетонные столбы и заплеванную набережную. Зависая над белым крестом крошечного посадочного пирса, отвлекитесь на секунду и сквозь водяные брызги из-под лопастей вашего вертолета взгляните на окна гигантского медцентра с белым по лиловому именем «Риф» на торце одного из его небоскребов. Там, прямо под эмблемой, у раскрытого окна на двадцать четвертом этаже, водрузив босые ноги на хлипкий пластиковый подоконник, развалилась полуголая я.
Сегодня выходной, и я хомячу и подкармливаю жирных чаек. Я достаю из пакетика сдвоенные печеньки, разделяю их и слизываю тугой приторный крем с пищевой ванилиновой добавкой, а обмусоленные шоколадные половинки разламываю и бросаю за окно, где их хватает на бреющем полете серьезный альбатрос. Я вижу, как куски наживы выпирают сквозь кожу его шеи, пролезая толчками из жадного клюва, и сама чувствую, как острые обломки твердого лакомства царапают мое, не птичье, горло, и стараюсь отламывать кусочки поменьше. Одновременно меня оглушает тяжелый рок металла с хайвея – из бездны под моим окном, навязчивый стрекот алюминиевых стрекоз, густой басок парома с залива и требовательное е-щ-е-е-е крылатых атлантических попрошаек. Лишь чайки сверлят меня своими глазами-бусинами на черных венецианских масках, ведь с вертолетов меня трудно разглядеть.