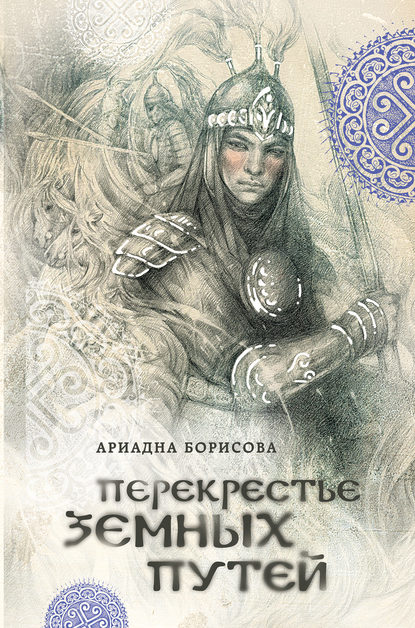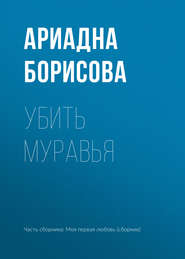По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перекрестье земных путей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Детеныш помчался как мог быстро, продолжая кричать. Волк сомкнул челюсти на тощей шее поздно опомнившейся собачонки. Он уже забыл о детеныше и угрозе появления его взрослых родичей.
Маломощная добыча недолго сучила лапками. Из разодранного горла хлынула блестящая кровь и разлилась по земле густой лужицей. Багрово-сизые, умопомрачительно сочные внутренности душисто дымились в морозном воздухе рябинового паволока. Урча и повизгивая, одинец торопливо глотал мясо вместе со шкурой. Он купался в вожделенной крови и плоти, вкушая блаженство. Он ощущал себя заново явленным в первый на Земле день охотничьего рождения, который только что открыл бесконечный круг поглощения и воссоздания. Жизнь в хромом волке ликовала как никогда, и не было на свете ничего вкуснее ее.
Но вот уж немилость судьбы и случая! Послышался лай крупной собаки, и, прежде чем волчью голову стеганул жгучий ужас, одинец понял, что счастье кончилось. Явились-таки двуногие. Подобрав непокорную лапу, калека запрыгал прочь. Славное место сулило ему глотки? потерянного здоровья с каждым куском, и так внезапно, так горько обмануло его кажущимся безлюдьем. Волк еле добрался до потаенного убежища в расщелине кряжа и принялся выкусывать песью кровь с шерсти. Будь он человеком, он бы заплакал.
Погодя обнаружилось, что жилистое мясо собачонки не в состоянии восстановить силы, траченные на испуг и побег из вероломной межи. Волк опустил морду на передние лапы и попробовал задремать. Но и тут ближняя тропа зазвенела от поступи двуногого. Отзвук шагов дробью раскатился в ущелье. И тотчас с вкрадчивым шорохом, заглушив все шумы, посыпались хлопья пушистого снега.
Одинец взволнованно клацнул зубами, ловя знойной пастью прохладные снежинки. Подразненное собачонкой брюхо сводило мучительной судорогой неудовлетворенной жажды. Брюхо требовало и лишало рассудка. Оно алкало довершить прерванный праздник, чего бы это ни стоило растревоженному хозяину, и превращало его смятение если не в отвагу, то в безрассудство.
Двуногий оказался юной самкой, очень нежной и, наверное, очень сочной. Она не заметила трусящего за спиною хромого волка. Помедлила у дуплистой сосны и скрылась в пещере под невысокой скалой, на которой замысловатые ветра и время вырубили подобие человечьего лица.
Одинец мог захватить добычу прямо там, в естественной западне, что было бы удобнее и вернее всего. Но он знал, что пещера, легко впустившая двуногую, закроется перед ним. Так уже было однажды, когда он сунулся туда из любопытства. Вот и теперь, едва подступил к сторожу-валуну, вход замкнула огненная стена. «Домм-ини-домм!» – грозно гудело призрачное пламя и плевалось шипящими искрами.
Повернув обратно, волк наметил каменный выступ, нависший над нижним поворотом тропы. Должна же двуногая самка когда-нибудь выйти из пещеры! Точнее выверить прыжок, и жертва заверещать не успеет. Лишь бы проклятая лапа не подвела.
* * *
Снег пришел – как стало свежо и чисто! Илинэ вспомнила загадку дружинного мясовара Асчита о снеге: «Говорят, он многочисленнее всего, да не прочнее всех». А еще слова тетушки Ураны о том, что северяне различают в белом цвете четыре двадцатки оттенков. Они разные в каждом отдельном месте Великого леса. Белый цвет снега – цвет правды, торжественной и непорочной. Он чист, как чист плотью и мыслями божественный Дэсегей.
Верхние ярусы творили древний и вечно новый Круг юной небесной воды, который всегда начинается снегом. Пышные кумысные хлопья навевали сон, шурша кротко, сладко, словно нашептывали колыбельную песню. Падали в ладони и превращались в прозрачные росы.
По сосновому стволу проскользнул юркий полосатый зверек. Притворился корявым сучком, поглядел вниз блестящими глазками и бесшумно тронулся дальше, радуясь воздушным перьям. В детстве Илинэ с Атыном ставили под деревьями старые верши, надеясь поймать бурундука и приручить…
Малозаметная тропка, бегущая когда-то мимо Скалы Удаганки, давно заросла. Чужая человечья нога здесь не ступала, не мяла густые кусты. Только сорванная ветка указывала, что прошел какой-то зверь. А Илинэ бурундучок видел часто и не боялся ее, считая своей. Залез в дупло и по-хозяйски выкинул оттуда сухое синичье гнездо или нечаянно задел коготками проворных лапок. Она подняла оброненное. Погладила пальцем свалянную подстилку из косульей шерсти. Весною матушка-синица храбро выдирала клочки шерсти на спине у пасущейся косули, чтобы птенцам было тепло и мягко.
Илинэ подвесила гнездо на заснеженную ветку. Замерла перед входом: здесь ли ты, моя Иллэ? Девушка приходила в пещеру редко, боясь ненароком протоптать тропу, вызвать подозрения жрецов частым следом. Либо, чего доброго, встретить Сандала.
Слава богам, не случилось дурного с волшебной кобылицей. От застигнутой в движении, исполненной полета и ветра красоты ее, как всегда, дух занялся. Лебяжьи крыла, широко раскинутые в размахе, стремились вынести на волю предводительницу табуна небесных удаганок. А может, хотели обнять Илинэ, застывшую в восторге и невнятной печали? Блестел выпуклый глаз, наливаясь, чудилось, небесной росною влагой.
Видел ли Иллэ главный жрец? Наверное, с того времени, как говорил тут с Илинэ, он больше не бывал в пещере. А то непременно бы поинтересовался, кто посмел изобразить небесное создание, имеющее душу. Да и Атын забыл о нарисованной им кобылице. По крайней мере, не ходил сюда, Илинэ бы знала. Вот и хорошо. Где, как не здесь, спрятать Сата?
…Как незнакомо и сумрачно брат смотрел на нее! Неужто не поблазнилось, и взаправду холодная неприязнь скользнула в его усмешке, резанувшей сердце обидой? Должно быть, взвешивал, сестре ли поручить Сата. Отчего не отдал Дьоллоху или Билэру? Чуть голову ей не расплющил, с силой прижав к себе! Не дал сказать о Скале Удаганки. Велел молчать о Сата, даже если сам будет спрашивать…
Илинэ казалась близкой разгадка перемены поведения Атына. Надо только собрать растянутые по времени детские воспоминания одно к одному, как ягоды в туес, и тогда что-то прояснится.
Боковое зрение уловило полыхнувший у входа огонь. Оглянулась удивленно – нет никакого огня. Видно, шаловливый сквозняк взмел снежную горку над валуном. Или все-таки кто-то мимо прошел, затаился вблизи?
Меньше всего хотелось Илинэ, чтобы кто-нибудь ее тут застал. Она украдкой поднималась к Удаганке, делилась с нею нехитрыми радостями и печалями с тех пор, как та позвала. Скала с суровым лицом, которую Илинэ полюбила не меньше, чем матушку Лахсу, знала о ней все. Скала да крылатая Иллэ…
Девушка села у стены под копытами кобылицы. Достала из-за пазухи кошель с волшебным камнем. В мыслях всплыли слова Атына: «Он приносит беду, если попадает в руки недоброму человеку. Или существу… Камень увеличивает чувства, а я… плохой человек! У меня есть враг. Такой же, как я… То есть я – сам себе враг, понимаешь?»
Она не понимала. В чем брат каял себя, о каком существе поминал?
…Приносит беду.
Руки страшились развязать узелок. Но и любопытство снедало: может, Атын пошутил? Может, в кошель всунута обычная речная галька?
Все же чуялось – нет, не простой камень. Легонько попыталась прощупать, какой он, и пальцы сквозь тонко вымятую кожу овеяло щекотливым теплом. Илинэ отдернула руку. Сами по себе, без солнца, камни теплыми не бывают… А Сата затрепетал на коленях: ну же, не бойся, открой!
Не сразу дрожащие пальцы решились потянуть узел-туомтуу в разные стороны, и Сата выкатился в ладонь.
Илинэ тихо засмеялась. Как могла она бояться веселого блескучего гранника размером едва ли не в треть меньше ее кулака? Он оказался почти горячим на ощупь, будто живой… Он и был живым! Подрагивал мелко и нетерпеливо, а когда поднесла к свету, по всей пещере разбросались солнечные лучи с пляшущими серебристыми пылинками. Потом, только ахать успевай, волшебная штучка начала медленно расти и поворачиваться на ладони.
Запорхали радужные блики, точно бабочки замельтешили пестрыми крылышками, или пошел разноцветный снег! Лучезарные углы Сата вспыхивали новорожденным светом, отблески взрывались сполохами, и все вместе переливалось, искрилось, реяло и сверкало в сквозистом воздухе.
Илинэ всмотрелась ближе и вскрикнула, увидев себя в каждой грани. Каким бы боком ни повернулся камень, везде отражалась она! Под темными, вразлет, бровями, смеялись смородиновые глаза. На разрумяненных щеках играли круглые ямочки. От ровных зубов отскакивали снежные искры!
«Знаешь ли о том, какая красивая ты? – прошептал Сата, ластясь к руке. – Каждая твоя грань прекрасна по-своему».
– Не говори так, – смутилась Илинэ вслух. Замешательство не дало ей удивиться тому, что камень умеет вникать в мысли.
А он сказал:
«Лгать не умею… Красивая!»
Илинэ прикрыла льстеца ладонью, дабы не искушать на похвалу и самой не соблазняться. Ведомо было: люди тоже, кроме матушки Лахсы, полагают ее красивой. Не однажды доводилось слышать подобное. Матушка же ворчала: «Нашли казистую… Худа не в меру, глазищи в пол-лица – где пригожесть-то? Хватает в Элен девиц смазливее!» Плевалась в сторону, отводя возможную порчу. А еще, вздыхая, говорила, что внешняя красота дана человеку мудреным Дилгой, в любое время гораздым отнять подарок либо забрать взамен счастье. Поймешь ли загадки бога, который вертит ытык судеб, как ему заблагорассудится?
Лахса наказывала дочери, чтобы та не больно думала о своей якобы красоте. А Илинэ и не думала. Ну… почти. Свое превращение из длинноногого подростка в статную девушку она случайно заметила весною, когда нагнулась с ведром на мостках к спокойному озеру. Донце ведра тотчас разбило чистое отражение. Пришлось ждать, пока порушенная гладь вновь уляжется. Илинэ поразилась ладности возникшей перед ней незнакомки, хотя знала, конечно, что растет и преображается. С некоторых пор не без тревоги следила за нежданной переменой. Тело ее округлилось в иных местах, а в поясе, напротив, истончилось. Но у озерной девушки силуэт был совсем незнакомый, обтекаемый солнцем в изгибах нежно, как стройный чорон.
Позже выяснилось, что и голос Илинэ сделался глубоким, незаметно избыв девчачью писклявость, поступь стала летучей и волосы шелковистее. Ниже колен спускалась кудрявая коса-морока, предмет скрытого тщеславия матушки Лахсы. Дружинный мясовар Асчит, весельчак и загадчик, однажды на празднике Новой весны дернул Илинэ за косу и проворковал: «Без семян, а лучше травы растет!»
Илинэ вздрогнула, вспомнив Кинтея, его липучий мушиный взгляд. Парень стоял тогда поблизости и слышал слова Асчита. В бесстыжих глазах ясно читалось желание накрутить ее косу на кулак. Вымахал в жердину, пора быть женатым, а никак не выветрится из злого сердца детская неприязнь к «тонготскому подкидышу». Отчего же все-таки Атын похоже смотрел?..
Между пальцами пробился свет. Будто рука повернулась к солнцу, аж косточки насквозь прошибло алым сиянием. За разговором с памятью Илинэ забыла о Сата. Восьмилучистый камень дышал под ладонью мягко, как сонный зверек.
Девушка оглянулась вокруг:
– Куда бы тебя надежнее спрятать?
Со стены послышался вздох не вздох – словно ветерок слабый подул. Илинэ подняла незанятую руку, и ветерок окатил запястье прохладой, обвил воздушным кольцом, маня за собой к круглому окатышу-глазу Иллэ.
Вроде осторожно коснулась нижнего века лошади, а глазок-то возьми и выпади! Обнажилась щербина, которую он прикрывал, отворилась мертвая глазница. И, прежде чем охнуть и сокрушиться, что кобылица ослепла, Илинэ поняла, что та подсказала ей лучший схорон для волшебного камня. А он встрепенулся, обрадовался – чем же и стать ему, как не чистейшим оком предводительницы табуна небесных удаганок! Убавился, сделался меньше, чем был вначале, и вошел ровнехонько, будто в нарочно заказанное дуплецо.
Новый глаз засиял ярче прежнего. Чуткая зеница, окруженная светящейся радужкой, проявилась в хрустальной глубине. Старый окатыш-глазок, четыре весны служивший Иллэ верою-правдой, девушка сунула в кошель вместо Сата – оберегом будет. Долго любовалась чудесным ликом лошади. Впрямь лик, мордою не назовешь…
Вспомнился день давнего засушливого лета, когда Атын с Болотом влезли на скалу. Брат сорвался и, к счастью, попал в орлиное гнездо. Нашел там Сата. За шалость ослушники были крепко наказаны. Болота мать проучила прутом, седмицу сидеть не мог. А брат заболел. Хворь накинулась хищная, лютая. Жизнь и смерть наяву боролись, выкручивали и выжимали Атына каждая в свою сторону…
Илинэ вздохнула. В то время она была брату близка. Это Дьоллох только-только начал взрослеть. Стеснялся, что приходится с младшими водиться, вести над ними, как важно говаривал, неусыпный надзор… После чванливости поубавилось. Должно быть, впрямь повзрослел. И все бы хорошо, да на девушек совсем не смотрит, хотя большинство ровесников женаты уже и детны. Лишь Лахса подступится к сыну с намеком о сватовстве, тот рукою досадливо машет – отстань, мол. Вечерами усталая матушка тужит о новой работящей хозяйке. Сменила бы ее в заботах, дом справно повела и за старыми родителями мужа доглядела. Ведь еще год, от силы два, и в чужую семью уйдет Илинэ…
Пусть бы Болот присватался к ней, чем чужой человек издалека. Страшно Элен покидать, не видеть больше своих и Атына. Недолго ждать невестку и тетушке Уране. Сынок, к материнской радости, привезет хозяюшку из дальних мест, как завещано предками. Родовая кровь должна обновляться чаще, течь ровно, чисто, не застаиваясь недужной ржавью в потомстве. За наследного кузнеца девятого колена, к тому же пригожего и богатого, отдаст любимую дочь любая семья в Великом лесу-тайге.
Как-то примется невестка ухаживать за тетушкой? Уживется ли Олджуна с новой хозяйкой в доме? Поди, чуть что, браниться начнет, вечно всем недовольная…
Илинэ опять вздохнула. Не дело ей голову о сторонней жизни трудить, коли скоро станут они с Атыном друг другу вовсе никем.
А ведь она сегодня сразу сообразила – не зря догнал, причина важная есть. Давно не подходил потолковать просто так. Завидев сестру, обычно делает вид, что занят работой, и новостей не спрашивает. Обидно было Илинэ, что брат с Дьоллохом по-прежнему дружен, а ее избегает. Ну, не родной брат, а все равно близкий человек… Вместе же росли! Не будь этих неловкостей, Илинэ посещала бы Урану каждый день. Холила бы, обихаживала болезную, ведь не трудно, и обеим приятно. Всей душою жалела тетушку, видя, что никто во всем свете не любит ее… Даже Атын, кровный сынок.
Не раз хотелось его в том упрекнуть. Да не приманишь приязнь к сердцу, как синицу к конопляным семечкам на снегу. Крепкими узами привязано сердце к той, что грудью выкормила, вырастила с любовью и негой. Это ж только недобрые люди думают, будто стоит приемышу отлучиться от кормилицыной семьи, как он уже о ней не вспомнит. И нянька-де рада-радешенька от него избавиться, благодарствуя на щедром отдарке. На самом-то деле некровные ближники порою так спаяны, что хоть ножом, хоть огнем разделяй – не разделишь.