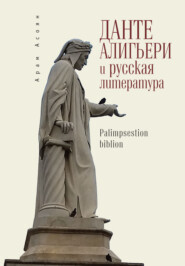По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семиотика мифа об Орфее и Эвридике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А темные восторги расставанья[76 - Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 143–144.].
Мотив «темных восторгов», который вызывает в памяти стих «Узницы» Э. Бронте «Чем яростнее боль, тем выше благодать», своего рода аллюзия на так называемый «потерянный рай». Он «истинен, – пишет Г. Маркузе, – не только потому, что в ретроспективе ушедшая радость кажется более прекрасной, чем она была на самом деле, но потому, что только воспоминание освобождает радость от тревоги, вызванной ее преходящестью. «Только натиск воображения, – говорил, – У. Стивенс, – спасает нас от реальности»[77 - Stevens W. Necessary Angel. L.: Knopf, 1951. P. 36.] и, таким образом, придает ей иначе немыслимую длительность»[78 - Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995. С. 243.]. Как будто отзываясь на подобную логику, один из литераторов задается вопросом: «А не сознательно ли оглянулся Орфей? Не с умыслом ли? А? Оглянулся – чтобы потерять». В эссе «Случай Орфея» он пишет: «Всякий оглядывающийся – женщина… Это лишний раз подтверждается семиотическим различием в половых «векторах» мужчины и женщины: устремленность вовне и устремленность в себя (…) И всякий поэт в подсознательной глубине своей природы – женщина (ср. с А. Кушнером. – А. А.), поскольку поэзия и есть взгляд назад, в прошедшее; поэзия и есть вечное оглядывание.
«Только грядущее – область поэта», – сказал Брюсов. А кто помнит Брюсова-поэта?»[79 - Жажоян М. Случай Орфея. – Знамя, 1999, № 6. С. 154, 152. Ср.: «Мужская любовь – всегда надрыв. Мужчины не могут не бросать того, что любят». -Цит.: Тодд О. Альбер Камю: Фрагменты книги. – Иностранная литература, 2000, № 4. С. 180. Слова Марты в» Недоразумении» Камю.].
У Волошина есть еще одно «орфическое» стихотворение, навеянное, как нам кажется, «Сказкой об Орфее» ренессансного поэта Анджело Полициано, хотя сам Волошин о времени создания этих стихов сообщал в своем дневнике: «Все, что я написал за последние два года (1904–1905. – А. А.) – все было обращением к М. В. (Маргарите Васильевне Сабашниковой. – А. А.) и часто только ее словами»[80 - Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 565–566.]. В одном из случаев стихотворение носило название – «На заре»:
Эта светлая аллея
В старом парке – на горе,
Где проходит тень
Орфея Молчаливо на заре.
Весь прозрачный – утром рано,
В белом пламени тумана
Он проходит, не помяв
Влажных стеблей белых трав.
Час таинственных наитий.
Он уходит в глубь аллей,
Точно струн, касаясь нитей
Серебристых тополей.
Кто-то вздрогнул в этом мире.
Щебет птиц. Далекий ключ.
Как струна на чьей-то лире
Зазвенел на ветке луч.
Все распалось. Мы приидем
Снова в мир, чтоб видеть сны.
И становится невидим
Бог рассветной тишины[81 - Ibid. 103.].
О «Сказке…» Полициано известный историк итальянской литературы Ф. де Санктис оставил лаконичный и проницательный комментарий, который, на наш взгляд полностью применим к стихам Волошина.
Де Санктис писал: полициановский «Орфей – легкий призрак, колеблемый волнами тонких ароматов, и когда вы подходите к нему слишком близко, он исчезает, как Эвридика. Это мир, серьезность которого определяется его способностью будить фантазию…»[82 - Санктис Ф. де. История итальянской литературы: В 2 т. Т. 1. М., 1963. С. 445.]. С этими словами, как и со стихотворением «На заре», корреспондирует высказывание Волошина, что некогда мифы были сновидением пробуждающегося человечества, и их можно сравнить с предрассветными сумерками, сквозь которые проступает логика грез[83 - Волошин М. Лики творчества. М., 1988. С. 351, 352, 696.]. Подобные грезы, исчезающие в лучах дневного солнца… и олицетворяет для художественного сознания Эвридика.
Миф об Орфее и Эвридике многократно инициирует в русском сознании тему поэта и поэзии. В лирике К. Вагинова, в стихотворении «Эвридика» (1926) традиционная тема, преломившись в мифе, обретает трагический модус и узнаваемый исторический смысл. Спасительный для лирического героя сомнамбулизм прободается прозрением антикультурного характера постреволюционной действительности:
Зарею лунною, когда я спал, я вышел,
Оставив спать свой образ на земле.
Над ним шумел листвою переливной
Пустынный парк военных дней.
Куда идти легчайшими ногами?
Зачем смотреть сквозь веки на поля?
Но музыкою из тумана
Передо мной возникла голова.
Ее глаза струились,
И губы белые влекли,
И волосы сияньем извивались
Над чернотой отсутствующих плеч.
И обожгло: ужели Эвридикой
Искусство стало, чтоб являться нам
Рассеянному поколению Орфеев,
Живущему лишь по ночам[84 - Вагинов Конст. Опыты соединения слов посредством ритма. Л., 1931. Репринт. М., 1991. С. 36. Ср. стихотворение Вагинова с дневниковой записью Н. Пунина: «Нигде ничего не «вертится», все стоит; мертвое качание, что-то зловещее в мертвой тишине времени; все чего-то ждут и что-то непременно должно случиться и вот не случается… неужели это может тянуться десятилетие? – от этого вопроса становится страшно, и люди отчаиваются и, отчаиваясь, развращаются. Большей развращенности и большего отчаяния, вероятно, не было во всей русской истории. Была аракчеевщина, была николаевщина и Александр III, были деспотии, давившими стопудовыми гирями «отсталой идеи», а сейчас не деспотия и даже не самодурство, а гниение какого-то налета, легшего на молодую и свежую кожу; это налет обязательно сгниет и погибнет, и поэтому все, что сейчас – совершенно бесплодно, в гораздо большей степени бесплодно, чем аракчеевщина и Александр III. Не страдаем, как страдали, например в 1918–1919 гг. (страдания тех лет были несомненно плодоносными), а задыхаемся, вянем и сохнем, разлагаемся и корчимся в смертельных корчах и в смертельной опасности, но почему-то все знаем, что не к смерти и что смерти не будет. Испанией все-таки мы не станем. Л. Сказал, вернувшись недавно из-за границы: на Западе полная возможность работать, но очень плох материал, у нас прекрасный материал и никакой возможности работать». Это вероятно, правда». – Пунин Н. Из дневника (1925). – В его кн.: Пунин Н. О Татлине. М., 2001. С. 73.].
В другом стихотворении Вагинова «Я восполненья не искал» Эвридика – alter ego поэта, она мыслится лучшей частью его самого, – «Я – часть себя», – без культа и поклонения которой, – «идололатрии»-, творчество если и мыслимо, то невозможно. Сходной теме посвящено стихотворение Арс. Тарковского «Эвридика», но здесь другое «Я» поэта представлено разными ипостасями его души: земной и небесной. Одна рвется ввысь, другая – «Горит, перебегая, От робости к надежде, Огнем, как спирт, без тени Уходит по земле, На память гроздь сирени Оставив на столе»[85 - Тарковский Арс. Белый день. М., 1998. С. 241.]. В ней, «Эвридике бедной», поэт и узнает свою неприкаянную, милую музу.
В романе «Козлиная песнь» Вагинов вновь обращается к знакомой мифориторике, но теперь орфическая тема возникает как бриколаж блоковских размышлений об инфернальной жертве художника. «Они не поймут, – рассуждает один из центральных персонажей Вагинова, – что поэт должен быть во что бы то ни стало Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой – искусством и что, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает. Неразумны те, кто думает, что без нисхождения во ад возможно искусство»[86 - Вагинов Конст. Козлиная песнь: Романы. М., 1991. С. 72.]. Эти слова «неизвестного поэта» созвучны убеждению Новалиса, который, как считает Г. Косиков, был склонен считать, что для человека, взыскующего «истинной» жизни, спуск в бездны души всегда заканчивается в некой критической точке, и после нее, – словно в «Божественной Комедии», – нисхождение вдруг превращается в восхождение, открывающее душе ее божественную природу[87 - Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993. С. 23.].
Вместе с тем рассуждения «неизвестного поэта» – контаминация и резюме идей, популярных в эпоху Серебряного века. Это и «аполлоническое опьянение», благодаря которому, согласно Ницше, всякий художник – «визионер par excellence»[88 - Ницше Ф. Указ соч. Т. 2. С. 599.], и трактовка поэта как «Орфея, вызывающего в мир действительности ПРИЗРАК, то есть новый образ, не данный в природе»[89 - Белый Андрей. Указ. соч. Т. 1. С. 262.]; наконец, мысль о воплощении в Орфее» мистического синтеза обоих откровений», Диониса и Аполлона[90 - Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 168.]. В начале века Орфей воистину становится культовой фигурой, ибо предстает в художественном сознании посредником между двумя мирами; поворотом метится рубеж между ними. Правда, никому не приходит в голову подозревать его в некрофильстве, хотя возлюбленная Орфея – вечная пленница Персефоны и Аида. В этом отношении Орфею повезло больше, чем русскому наперснику первого поэта – Пушкину, а между тем искушенные читатели мифа предполагают творческо – эротический экстаз Орфея в присутствии Персефоны, и основания для таких интуиций, несомненно, есть. Так в» Описании Эллады» Павсания встречается знаменательное сообщение: Орфей по возвращению из страны гипербореев поставил храм Коры – Спасительницы в Лакедемоне[91 - Павсаний. Описание Эллады. III, 13-2.]. Кора – вечная невеста, так как Аид не способен к зачатию; недаром в статуях архаических кор заметна некая кокетливость – она проявляется в жесте левой руки, которой девы натягивают край хитона. Символика этого жеста угадывается благодаря стиху, где Сафо упрекает свою подругу:
И какая тебя
так увлекла,
в сполу одетая,
Деревенщина?
……………………
Не умеет она
платья обвить
около щиколки[92 - Античная лирика. М., 1968. С. 65.].
По мнению Д. Молока, этот жест имел эротический, более того, обсценный оттенок[93 - Молок Д. Ю. Рильке об «архаической улыбке». – Введение в храм: Сб. статей. М., 1997. С. 92.]. С подобным антуражем Персефоны ассоциируется рассказ Г.-Э. Носсака «Орфей и…», где писатель, которого немцы ставят в один ряд с Камю и Сартром, объясняет поворот поэта неодолимым желанием еще раз взглянуть на Персефону, ибо «лебединая песня» обретает свой голос лишь в присутствии царицы Смерти. Эта мифологема определяет и содержание фильма Ж. Кокто «Орфей»: – Посмотрите мне в глаза, – говорит Эртебиз Орфею. – Хотите ли вы последовать туда ради Эвридики или ради Смерти? – Ради обеих.
У Носсака Орфей оборачивается в тот момент, когда его внезапно пронзает мысль, что никогда больше он не будет петь так, как сегодня[94 - По мнению Г. Башляра, лебединая песня представляет собой аллюзию на желание, влекущее за собой смерть. – См.: Керлот Х. Э. Словарь символов. М., 1994. С. 285.]. И увидеть он надеялся не Эвридику, а освещенный забрезжившим днем лик Коры. «… с определенного момента эту историю, – считает Ганс Носсак, – следовало бы называть историей Орфея и Персефоны. Тогда стало бы понятней, почему впоследствии фракийские женщины растерзали слепого певца. Они наверняка заметили, что пел он уже не для земной женщины, а для богини смерти»[95 - Носсак Г. – Э Избранное: Сборник. М., 1982. С. 555–556. Ср.: «… миф сообщал, что Гермес сексуально возбуждался при виде Персефоны». – Хюбнер Курт. Истина мифа. С. 199.].
«Лебединая песнь» Орфея, возможно, действительно обязана Персефоне, потому что смерть это и ужас, и одновременно озарение[96 - См.: Сюрпа Мишель. Жорж Батай, или Работа Смерти. – Иностранная литература, 2000, № 4. С. 17.]. Так в нисхождении Орфея видят не столько желание спасти Эвридику, сколько попытку вернуть первоощущение жизни, творчества, вдохновения[97 - См.: Strauss W. A. Descent and return. The Orphic Theme in Modern Literature. Cambridge, Massachusetts, 1971. P. 88. В другом исследовании читаем: «С полным основанием Ж. П. Вернан сравнивает вдохновение поэта с вызыванием умершего из потустороннего мира или с descensus ad linferos, которое совершает живущий, чтобы познать все, что он хотел бы знать». – Элиаде М. Аспекты мифа. С. 124.]. Ради него художник нисходит в ад, чтобы смертельным восторгом излиться в роковой песне. Иной поворот устремлений Орфея открывается в эссе М. Бланшо «Смерть последнего писателя».
Художник, по его словам, должен уметь «войти, – более, чем кто бы то ни было, – в интимные отношения с исходным ропотом. Только этой ценой и может он навязать ему безмолвие, в этом безмолвии его услышать, затем выразить, перед тем его видоизменив. Нет писателя, – говорит Бланшо, – без подобного подхода; нет, если он не перенес стойко подобное испытание. Эта неговорящая речь очень похожа на вдохновение, но она с ним не совпадает: она ведет только в единственное для каждого место – ад, куда спускается Орфей, место рассеивания и несогласия, где вдруг нужно обратиться к ней лицом и найти в себе, в ней и во всем опыте искусства – то, что преображает бессилие в мощь, заблуждение – в путь и неговорящую речь – в безмолвие, исходя из которого она и в самом деле может говорить и дать заговорить в себе истоку, не уничтожая людей»[98 - Комментарии, 1992, № 1. С. 8.].
Пассаж Бланшо напоминает статью Блока «О назначении поэта», в которой русский гений писал: «На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком (…) катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную (…) Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира (…) Первое дело, которого требует от поэта его служение, – (…) поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину (…) Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу (…) Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины звук был заключен в прочную и осязательную форму слова (…) чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, – тем более ясную форму стремится он принять.»[99 - Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. М., Л., 1962. С. 153–164.].
Удивительная перекличка Бланшо с Блоком объясняется тем, что их модели поэтического творчества, как и катабазис Орфея, имеют истоком один и тот же архетип – элевсинские мистерии, в которых процесс инициации начинался с полосы испытаний, принимавших форму странствий по различным стихиям: под землей, на воде и, наконец, под открытым небом. Подземные скитания символизировали нисхождение посвящаемого в ад, т. е. в низшие состояния бытия, которые он должен был исчерпать в себе, прежде чем перейти к последующему восхождению. Поскольку посвящение рассматривалось как второе рождение, это нисхождение, этот катабазис предполагал смерть посвящаемого по отношению ко всему мирскому, а так как «второе рождение было психическим возрождением, именно в психическом плане и осуществлялись первые этапы инициационного развития. Критическая стадия, поворотный этап совпадал с моментом перехода от психического уровня к духовному (…) Это (…) было третьим рождением, высвобождением из-под власти космоса, которое символизируется выходом из пещеры, где происходила инициация»[100 - Комментарии, 1992, № 1. С. 33. Ср.: «После посещения Орфеем Аидова царства его понимание мировой гармонии изменилось, а сама гармония приоткрыла ему свои новые, неведомые прежде грани. Нередко его чувства окрашивались в скорбные тона, и тогда на одной чаше весов оказывалась жизнь, а на другой – смерть». – Герцман Е. В. Музыка древней Греции и Рима. СПб., 1995. С. 85.].
В элевсинских мистериях приобщение к Божеству свершалось через священный брак иерофанта с богиней, в роли которой выступала жрица Персефоны. В семиотическом плане нисхождение Орфея может означать, кроме всего, «историю с Персефоной», иначе говоря, посвящение поэта в тайны зиждительного хаоса и хтонической мудрости, без которой художник бессилен исполнить «жертвенный завет». В стихотворении Вяч. Иванова «Орфей растерзанный» парафразой этой ситуации звучит призыв океанид:
Мы – дети морские, Орфей, Орфей!
Мы – дети тоски и глухих скорбей!
Мы – Хаоса души! сойди заглянуть
Ночных очей в пустую муть!
Мы – смута и стоны, Орфей, Орфей!
Мы пут препоны, тугу цепей
Хотим стряхнуть! Сойди зачерпнуть,
Захлебнуть нашу горечь в земную грудь![101 - Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. В 2 т. Т. 1. СПб., С. 197.]
Уместно заметить, что в мифе об Орфее и Эвридике нашли отражение глубинные интуиции единства эроса и смерти, эроса и творческого вдохновения. И если в известном смысле в эросе присутствует мортальный инстинкт, то не менее справедливо, что «Жизнь начинается с игнорирования смерти»[102 - Ион Д. Сорбу. Упражнения в ясности: Фрагменты книги «Журнал журналиста без журнала». – Иностранная литература, 2000, № 6. С. 272.], ибо Танатос то и дело подстерегает живущих. В результате человек пребывает в пограничном состоянии, и следствием его оказывается онтологический страх[103 - Там же. С. 266.].
Не означает ли это, что именно он стал причиной поворота Орфея? А коли действительно так, то понятно, почему Орфей оглянулся, уже увидев перед собой свет, т. е. на границе между мирами. Иначе говоря, в том пространстве, где порог актуализирует глубинный, бессознательный ужас.
Иное толкование катастрофичности оборота связано с древней мифологемой пути как движением в преисподнюю. Совсем не важно, куда направляется герой, поскольку любой путь на мифологическом уровне воспринимается как приближение к смерти (ср. с парадоксальным, но обоснованным выводом З. Фрейда: «Целью жизни является смерть»). «Человек, – пишет О. Фрейденберг, – должен пройти путь смерти, пространствовать в буквальном смысле слова, и тогда он выходит обновленным, вновь ожившим, спасенным от смерти. Он не должен оглядываться на пройденный путь, ни возвращаться по пройденному пути, ибо это означает снова умереть»[104 - Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: «Восточная литература» РАН, 1978. С. 506. Здесь кстати вспомнить замечание Ю. Лотмана: «Одиссей, Орфей, Дон-Кихот (…) герои, имеющие путь, осуществляющие движение внутри того универсального пространства, которое представляет собой их мир». – Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Талинн, 1992. С. 390.]. В таком случае, катастрофа Орфея, как и жены Лота, превратившейся в соляной столб, вызвана нарушением священного табу, закрепившегося в суеверии: «уйти и вернуться (у древних римлян – обернуться) – значит быть беде». Эта ситуация кардинально переосмыслена в христианстве. «Чтобы спасти Эвридику, – писал Вл. Эрн, – нужно идти вперед, т. е. двигаться и созидать, преодолевать и творить. Возможность этого движения – сверхразумное, трансцендентное»[105 - Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 457.].
С другой стороны, в повороте Орфея читается несколько профанный, но не менее глубокий смысл. Он предопределен диалогической природой сознания и поведения человека. «В этом диалоге, – говорил М. Бахтин, – человек участвует весь и всей жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками»[106 - Бахтин М. М. Собр. соч. В 7 тт. Т. 5. М., 1966. С. 351.]. Диалогические рубежи покрывают все поле человеческой деятельности. Любое слово «оговорочно», любая мысль, любое движение диалогичны, сопровождаются оглядкой на «другого». Следовательно, оборачивание таится в экзистенции человека, и боги, налагая неисполнимый запрет, обманули Орфея. Его поворот не казуален и не каузален, он предрешен и именно потому становится структурно-функциональным мотивом мифа.
Но, спрашивается, есть ли в погибельном характере оглядки поэта какой-либо иной смысл, кроме карающей воли Аида? Орфей спешил к свету, и во тьме, ведомая звуками лиры[107 - Гигин. Мифы. СПб., 1997. № 14, 251. Грейвс Р. Указ. соч. С. 80.], Эвридика, рука об руку с Гермесом, шла за ним:
Мотив «темных восторгов», который вызывает в памяти стих «Узницы» Э. Бронте «Чем яростнее боль, тем выше благодать», своего рода аллюзия на так называемый «потерянный рай». Он «истинен, – пишет Г. Маркузе, – не только потому, что в ретроспективе ушедшая радость кажется более прекрасной, чем она была на самом деле, но потому, что только воспоминание освобождает радость от тревоги, вызванной ее преходящестью. «Только натиск воображения, – говорил, – У. Стивенс, – спасает нас от реальности»[77 - Stevens W. Necessary Angel. L.: Knopf, 1951. P. 36.] и, таким образом, придает ей иначе немыслимую длительность»[78 - Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995. С. 243.]. Как будто отзываясь на подобную логику, один из литераторов задается вопросом: «А не сознательно ли оглянулся Орфей? Не с умыслом ли? А? Оглянулся – чтобы потерять». В эссе «Случай Орфея» он пишет: «Всякий оглядывающийся – женщина… Это лишний раз подтверждается семиотическим различием в половых «векторах» мужчины и женщины: устремленность вовне и устремленность в себя (…) И всякий поэт в подсознательной глубине своей природы – женщина (ср. с А. Кушнером. – А. А.), поскольку поэзия и есть взгляд назад, в прошедшее; поэзия и есть вечное оглядывание.
«Только грядущее – область поэта», – сказал Брюсов. А кто помнит Брюсова-поэта?»[79 - Жажоян М. Случай Орфея. – Знамя, 1999, № 6. С. 154, 152. Ср.: «Мужская любовь – всегда надрыв. Мужчины не могут не бросать того, что любят». -Цит.: Тодд О. Альбер Камю: Фрагменты книги. – Иностранная литература, 2000, № 4. С. 180. Слова Марты в» Недоразумении» Камю.].
У Волошина есть еще одно «орфическое» стихотворение, навеянное, как нам кажется, «Сказкой об Орфее» ренессансного поэта Анджело Полициано, хотя сам Волошин о времени создания этих стихов сообщал в своем дневнике: «Все, что я написал за последние два года (1904–1905. – А. А.) – все было обращением к М. В. (Маргарите Васильевне Сабашниковой. – А. А.) и часто только ее словами»[80 - Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 565–566.]. В одном из случаев стихотворение носило название – «На заре»:
Эта светлая аллея
В старом парке – на горе,
Где проходит тень
Орфея Молчаливо на заре.
Весь прозрачный – утром рано,
В белом пламени тумана
Он проходит, не помяв
Влажных стеблей белых трав.
Час таинственных наитий.
Он уходит в глубь аллей,
Точно струн, касаясь нитей
Серебристых тополей.
Кто-то вздрогнул в этом мире.
Щебет птиц. Далекий ключ.
Как струна на чьей-то лире
Зазвенел на ветке луч.
Все распалось. Мы приидем
Снова в мир, чтоб видеть сны.
И становится невидим
Бог рассветной тишины[81 - Ibid. 103.].
О «Сказке…» Полициано известный историк итальянской литературы Ф. де Санктис оставил лаконичный и проницательный комментарий, который, на наш взгляд полностью применим к стихам Волошина.
Де Санктис писал: полициановский «Орфей – легкий призрак, колеблемый волнами тонких ароматов, и когда вы подходите к нему слишком близко, он исчезает, как Эвридика. Это мир, серьезность которого определяется его способностью будить фантазию…»[82 - Санктис Ф. де. История итальянской литературы: В 2 т. Т. 1. М., 1963. С. 445.]. С этими словами, как и со стихотворением «На заре», корреспондирует высказывание Волошина, что некогда мифы были сновидением пробуждающегося человечества, и их можно сравнить с предрассветными сумерками, сквозь которые проступает логика грез[83 - Волошин М. Лики творчества. М., 1988. С. 351, 352, 696.]. Подобные грезы, исчезающие в лучах дневного солнца… и олицетворяет для художественного сознания Эвридика.
Миф об Орфее и Эвридике многократно инициирует в русском сознании тему поэта и поэзии. В лирике К. Вагинова, в стихотворении «Эвридика» (1926) традиционная тема, преломившись в мифе, обретает трагический модус и узнаваемый исторический смысл. Спасительный для лирического героя сомнамбулизм прободается прозрением антикультурного характера постреволюционной действительности:
Зарею лунною, когда я спал, я вышел,
Оставив спать свой образ на земле.
Над ним шумел листвою переливной
Пустынный парк военных дней.
Куда идти легчайшими ногами?
Зачем смотреть сквозь веки на поля?
Но музыкою из тумана
Передо мной возникла голова.
Ее глаза струились,
И губы белые влекли,
И волосы сияньем извивались
Над чернотой отсутствующих плеч.
И обожгло: ужели Эвридикой
Искусство стало, чтоб являться нам
Рассеянному поколению Орфеев,
Живущему лишь по ночам[84 - Вагинов Конст. Опыты соединения слов посредством ритма. Л., 1931. Репринт. М., 1991. С. 36. Ср. стихотворение Вагинова с дневниковой записью Н. Пунина: «Нигде ничего не «вертится», все стоит; мертвое качание, что-то зловещее в мертвой тишине времени; все чего-то ждут и что-то непременно должно случиться и вот не случается… неужели это может тянуться десятилетие? – от этого вопроса становится страшно, и люди отчаиваются и, отчаиваясь, развращаются. Большей развращенности и большего отчаяния, вероятно, не было во всей русской истории. Была аракчеевщина, была николаевщина и Александр III, были деспотии, давившими стопудовыми гирями «отсталой идеи», а сейчас не деспотия и даже не самодурство, а гниение какого-то налета, легшего на молодую и свежую кожу; это налет обязательно сгниет и погибнет, и поэтому все, что сейчас – совершенно бесплодно, в гораздо большей степени бесплодно, чем аракчеевщина и Александр III. Не страдаем, как страдали, например в 1918–1919 гг. (страдания тех лет были несомненно плодоносными), а задыхаемся, вянем и сохнем, разлагаемся и корчимся в смертельных корчах и в смертельной опасности, но почему-то все знаем, что не к смерти и что смерти не будет. Испанией все-таки мы не станем. Л. Сказал, вернувшись недавно из-за границы: на Западе полная возможность работать, но очень плох материал, у нас прекрасный материал и никакой возможности работать». Это вероятно, правда». – Пунин Н. Из дневника (1925). – В его кн.: Пунин Н. О Татлине. М., 2001. С. 73.].
В другом стихотворении Вагинова «Я восполненья не искал» Эвридика – alter ego поэта, она мыслится лучшей частью его самого, – «Я – часть себя», – без культа и поклонения которой, – «идололатрии»-, творчество если и мыслимо, то невозможно. Сходной теме посвящено стихотворение Арс. Тарковского «Эвридика», но здесь другое «Я» поэта представлено разными ипостасями его души: земной и небесной. Одна рвется ввысь, другая – «Горит, перебегая, От робости к надежде, Огнем, как спирт, без тени Уходит по земле, На память гроздь сирени Оставив на столе»[85 - Тарковский Арс. Белый день. М., 1998. С. 241.]. В ней, «Эвридике бедной», поэт и узнает свою неприкаянную, милую музу.
В романе «Козлиная песнь» Вагинов вновь обращается к знакомой мифориторике, но теперь орфическая тема возникает как бриколаж блоковских размышлений об инфернальной жертве художника. «Они не поймут, – рассуждает один из центральных персонажей Вагинова, – что поэт должен быть во что бы то ни стало Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой – искусством и что, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает. Неразумны те, кто думает, что без нисхождения во ад возможно искусство»[86 - Вагинов Конст. Козлиная песнь: Романы. М., 1991. С. 72.]. Эти слова «неизвестного поэта» созвучны убеждению Новалиса, который, как считает Г. Косиков, был склонен считать, что для человека, взыскующего «истинной» жизни, спуск в бездны души всегда заканчивается в некой критической точке, и после нее, – словно в «Божественной Комедии», – нисхождение вдруг превращается в восхождение, открывающее душе ее божественную природу[87 - Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993. С. 23.].
Вместе с тем рассуждения «неизвестного поэта» – контаминация и резюме идей, популярных в эпоху Серебряного века. Это и «аполлоническое опьянение», благодаря которому, согласно Ницше, всякий художник – «визионер par excellence»[88 - Ницше Ф. Указ соч. Т. 2. С. 599.], и трактовка поэта как «Орфея, вызывающего в мир действительности ПРИЗРАК, то есть новый образ, не данный в природе»[89 - Белый Андрей. Указ. соч. Т. 1. С. 262.]; наконец, мысль о воплощении в Орфее» мистического синтеза обоих откровений», Диониса и Аполлона[90 - Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 168.]. В начале века Орфей воистину становится культовой фигурой, ибо предстает в художественном сознании посредником между двумя мирами; поворотом метится рубеж между ними. Правда, никому не приходит в голову подозревать его в некрофильстве, хотя возлюбленная Орфея – вечная пленница Персефоны и Аида. В этом отношении Орфею повезло больше, чем русскому наперснику первого поэта – Пушкину, а между тем искушенные читатели мифа предполагают творческо – эротический экстаз Орфея в присутствии Персефоны, и основания для таких интуиций, несомненно, есть. Так в» Описании Эллады» Павсания встречается знаменательное сообщение: Орфей по возвращению из страны гипербореев поставил храм Коры – Спасительницы в Лакедемоне[91 - Павсаний. Описание Эллады. III, 13-2.]. Кора – вечная невеста, так как Аид не способен к зачатию; недаром в статуях архаических кор заметна некая кокетливость – она проявляется в жесте левой руки, которой девы натягивают край хитона. Символика этого жеста угадывается благодаря стиху, где Сафо упрекает свою подругу:
И какая тебя
так увлекла,
в сполу одетая,
Деревенщина?
……………………
Не умеет она
платья обвить
около щиколки[92 - Античная лирика. М., 1968. С. 65.].
По мнению Д. Молока, этот жест имел эротический, более того, обсценный оттенок[93 - Молок Д. Ю. Рильке об «архаической улыбке». – Введение в храм: Сб. статей. М., 1997. С. 92.]. С подобным антуражем Персефоны ассоциируется рассказ Г.-Э. Носсака «Орфей и…», где писатель, которого немцы ставят в один ряд с Камю и Сартром, объясняет поворот поэта неодолимым желанием еще раз взглянуть на Персефону, ибо «лебединая песня» обретает свой голос лишь в присутствии царицы Смерти. Эта мифологема определяет и содержание фильма Ж. Кокто «Орфей»: – Посмотрите мне в глаза, – говорит Эртебиз Орфею. – Хотите ли вы последовать туда ради Эвридики или ради Смерти? – Ради обеих.
У Носсака Орфей оборачивается в тот момент, когда его внезапно пронзает мысль, что никогда больше он не будет петь так, как сегодня[94 - По мнению Г. Башляра, лебединая песня представляет собой аллюзию на желание, влекущее за собой смерть. – См.: Керлот Х. Э. Словарь символов. М., 1994. С. 285.]. И увидеть он надеялся не Эвридику, а освещенный забрезжившим днем лик Коры. «… с определенного момента эту историю, – считает Ганс Носсак, – следовало бы называть историей Орфея и Персефоны. Тогда стало бы понятней, почему впоследствии фракийские женщины растерзали слепого певца. Они наверняка заметили, что пел он уже не для земной женщины, а для богини смерти»[95 - Носсак Г. – Э Избранное: Сборник. М., 1982. С. 555–556. Ср.: «… миф сообщал, что Гермес сексуально возбуждался при виде Персефоны». – Хюбнер Курт. Истина мифа. С. 199.].
«Лебединая песнь» Орфея, возможно, действительно обязана Персефоне, потому что смерть это и ужас, и одновременно озарение[96 - См.: Сюрпа Мишель. Жорж Батай, или Работа Смерти. – Иностранная литература, 2000, № 4. С. 17.]. Так в нисхождении Орфея видят не столько желание спасти Эвридику, сколько попытку вернуть первоощущение жизни, творчества, вдохновения[97 - См.: Strauss W. A. Descent and return. The Orphic Theme in Modern Literature. Cambridge, Massachusetts, 1971. P. 88. В другом исследовании читаем: «С полным основанием Ж. П. Вернан сравнивает вдохновение поэта с вызыванием умершего из потустороннего мира или с descensus ad linferos, которое совершает живущий, чтобы познать все, что он хотел бы знать». – Элиаде М. Аспекты мифа. С. 124.]. Ради него художник нисходит в ад, чтобы смертельным восторгом излиться в роковой песне. Иной поворот устремлений Орфея открывается в эссе М. Бланшо «Смерть последнего писателя».
Художник, по его словам, должен уметь «войти, – более, чем кто бы то ни было, – в интимные отношения с исходным ропотом. Только этой ценой и может он навязать ему безмолвие, в этом безмолвии его услышать, затем выразить, перед тем его видоизменив. Нет писателя, – говорит Бланшо, – без подобного подхода; нет, если он не перенес стойко подобное испытание. Эта неговорящая речь очень похожа на вдохновение, но она с ним не совпадает: она ведет только в единственное для каждого место – ад, куда спускается Орфей, место рассеивания и несогласия, где вдруг нужно обратиться к ней лицом и найти в себе, в ней и во всем опыте искусства – то, что преображает бессилие в мощь, заблуждение – в путь и неговорящую речь – в безмолвие, исходя из которого она и в самом деле может говорить и дать заговорить в себе истоку, не уничтожая людей»[98 - Комментарии, 1992, № 1. С. 8.].
Пассаж Бланшо напоминает статью Блока «О назначении поэта», в которой русский гений писал: «На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком (…) катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную (…) Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира (…) Первое дело, которого требует от поэта его служение, – (…) поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину (…) Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу (…) Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины звук был заключен в прочную и осязательную форму слова (…) чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, – тем более ясную форму стремится он принять.»[99 - Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. М., Л., 1962. С. 153–164.].
Удивительная перекличка Бланшо с Блоком объясняется тем, что их модели поэтического творчества, как и катабазис Орфея, имеют истоком один и тот же архетип – элевсинские мистерии, в которых процесс инициации начинался с полосы испытаний, принимавших форму странствий по различным стихиям: под землей, на воде и, наконец, под открытым небом. Подземные скитания символизировали нисхождение посвящаемого в ад, т. е. в низшие состояния бытия, которые он должен был исчерпать в себе, прежде чем перейти к последующему восхождению. Поскольку посвящение рассматривалось как второе рождение, это нисхождение, этот катабазис предполагал смерть посвящаемого по отношению ко всему мирскому, а так как «второе рождение было психическим возрождением, именно в психическом плане и осуществлялись первые этапы инициационного развития. Критическая стадия, поворотный этап совпадал с моментом перехода от психического уровня к духовному (…) Это (…) было третьим рождением, высвобождением из-под власти космоса, которое символизируется выходом из пещеры, где происходила инициация»[100 - Комментарии, 1992, № 1. С. 33. Ср.: «После посещения Орфеем Аидова царства его понимание мировой гармонии изменилось, а сама гармония приоткрыла ему свои новые, неведомые прежде грани. Нередко его чувства окрашивались в скорбные тона, и тогда на одной чаше весов оказывалась жизнь, а на другой – смерть». – Герцман Е. В. Музыка древней Греции и Рима. СПб., 1995. С. 85.].
В элевсинских мистериях приобщение к Божеству свершалось через священный брак иерофанта с богиней, в роли которой выступала жрица Персефоны. В семиотическом плане нисхождение Орфея может означать, кроме всего, «историю с Персефоной», иначе говоря, посвящение поэта в тайны зиждительного хаоса и хтонической мудрости, без которой художник бессилен исполнить «жертвенный завет». В стихотворении Вяч. Иванова «Орфей растерзанный» парафразой этой ситуации звучит призыв океанид:
Мы – дети морские, Орфей, Орфей!
Мы – дети тоски и глухих скорбей!
Мы – Хаоса души! сойди заглянуть
Ночных очей в пустую муть!
Мы – смута и стоны, Орфей, Орфей!
Мы пут препоны, тугу цепей
Хотим стряхнуть! Сойди зачерпнуть,
Захлебнуть нашу горечь в земную грудь![101 - Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. В 2 т. Т. 1. СПб., С. 197.]
Уместно заметить, что в мифе об Орфее и Эвридике нашли отражение глубинные интуиции единства эроса и смерти, эроса и творческого вдохновения. И если в известном смысле в эросе присутствует мортальный инстинкт, то не менее справедливо, что «Жизнь начинается с игнорирования смерти»[102 - Ион Д. Сорбу. Упражнения в ясности: Фрагменты книги «Журнал журналиста без журнала». – Иностранная литература, 2000, № 6. С. 272.], ибо Танатос то и дело подстерегает живущих. В результате человек пребывает в пограничном состоянии, и следствием его оказывается онтологический страх[103 - Там же. С. 266.].
Не означает ли это, что именно он стал причиной поворота Орфея? А коли действительно так, то понятно, почему Орфей оглянулся, уже увидев перед собой свет, т. е. на границе между мирами. Иначе говоря, в том пространстве, где порог актуализирует глубинный, бессознательный ужас.
Иное толкование катастрофичности оборота связано с древней мифологемой пути как движением в преисподнюю. Совсем не важно, куда направляется герой, поскольку любой путь на мифологическом уровне воспринимается как приближение к смерти (ср. с парадоксальным, но обоснованным выводом З. Фрейда: «Целью жизни является смерть»). «Человек, – пишет О. Фрейденберг, – должен пройти путь смерти, пространствовать в буквальном смысле слова, и тогда он выходит обновленным, вновь ожившим, спасенным от смерти. Он не должен оглядываться на пройденный путь, ни возвращаться по пройденному пути, ибо это означает снова умереть»[104 - Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: «Восточная литература» РАН, 1978. С. 506. Здесь кстати вспомнить замечание Ю. Лотмана: «Одиссей, Орфей, Дон-Кихот (…) герои, имеющие путь, осуществляющие движение внутри того универсального пространства, которое представляет собой их мир». – Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Талинн, 1992. С. 390.]. В таком случае, катастрофа Орфея, как и жены Лота, превратившейся в соляной столб, вызвана нарушением священного табу, закрепившегося в суеверии: «уйти и вернуться (у древних римлян – обернуться) – значит быть беде». Эта ситуация кардинально переосмыслена в христианстве. «Чтобы спасти Эвридику, – писал Вл. Эрн, – нужно идти вперед, т. е. двигаться и созидать, преодолевать и творить. Возможность этого движения – сверхразумное, трансцендентное»[105 - Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 457.].
С другой стороны, в повороте Орфея читается несколько профанный, но не менее глубокий смысл. Он предопределен диалогической природой сознания и поведения человека. «В этом диалоге, – говорил М. Бахтин, – человек участвует весь и всей жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками»[106 - Бахтин М. М. Собр. соч. В 7 тт. Т. 5. М., 1966. С. 351.]. Диалогические рубежи покрывают все поле человеческой деятельности. Любое слово «оговорочно», любая мысль, любое движение диалогичны, сопровождаются оглядкой на «другого». Следовательно, оборачивание таится в экзистенции человека, и боги, налагая неисполнимый запрет, обманули Орфея. Его поворот не казуален и не каузален, он предрешен и именно потому становится структурно-функциональным мотивом мифа.
Но, спрашивается, есть ли в погибельном характере оглядки поэта какой-либо иной смысл, кроме карающей воли Аида? Орфей спешил к свету, и во тьме, ведомая звуками лиры[107 - Гигин. Мифы. СПб., 1997. № 14, 251. Грейвс Р. Указ. соч. С. 80.], Эвридика, рука об руку с Гермесом, шла за ним: