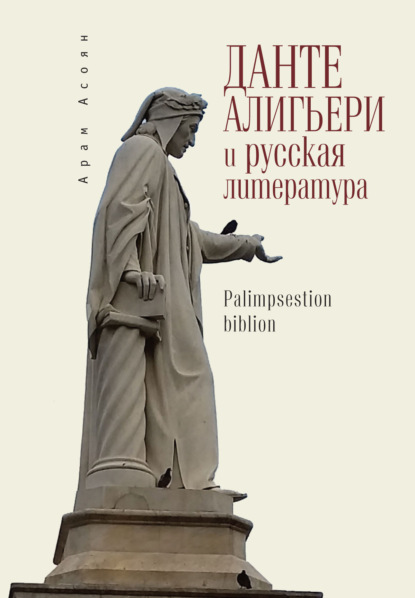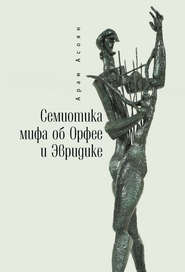По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Данте Алигьери и русская литература
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так Герион осел на дно провала
Там, где крутая шла скала,
И, чуть с него обуза наша спала,
Взмыл и исчез, как с тетивы стрела.
А. Илюшин:
Так зверь, носящий имя Гериона,
На дно спустился; мы сошли без звука;
Как только сняла груз моя персона,
Прочь улетел он, как стрела из лука.
В.Маранцман:
так Герион закончил свой полет,
достигнув скал глубинных остановки
где нас сгрузил, и, вновь подняв живот,
исчез как в пропасти конец веревки.
На наш взгляд стих Лозинского «Взмыл и исчез, как с тетивы стрела» наиболее выразительный и динамичный. Он эмблематичен для всей переводческой стратегии автора, у которого, как сказал бы Мандельштам, «Единство света, звука и материи составляет ее внутреннюю природу»[36 - Мандельштам О. Разговор о Данте ? Слово и культура. Статьи. М.: Сов. писатель, 1987. С. 112. О творческой истории «дантовского» текста М.Л.Лозинского см.: С.М.Лозинский. История одного перевода «Божественной Комедии» ? ? Дантовские чтения. М.: Наука, 1989. С. 10–17]. Иного рода стратегия А. Илюшина. Он сознательно уходит от испытанного русской поэзией пятистопного ямба и в соответствии с оригиналом предпочитает ему женский силлабический одиннадцатисложник, так как русский одиннадцатисложник с женской клаузулой ближе итальянскому эндекасиллабу – размеру дантовского стиха. Выбор не вкусовой, а профессиональный. Стиховеды убеждены, что технику эквиметрического перевода Данте на русский язык определить непросто. «Ясно, что перевод должен охранить большую долю ямбических строк и стоп внутри неямбических. Переводчик должен усилить четвертый и шестой слоги, как это сделано в «Божественной комедии. В наиболее точном и в стиховом, и в лексическом плане переводе А. А. Илюшина эта задача решается средством микрополиметрии: русское ухо, привычное к сверхжесткой силлаботонике, слышит в пределах строки или строфы сочетание различных стоп или рзмеров»[37 - Акимова М.В., Болотов С.Г. Стих «Божественной Комедии» и проблема его адекватной передачи на русском языке/?Славянский стих. Стих, язык, смысл. М.: Яз. сл. Культуры», 2009. С. 313.].
У Илюшина не только стиховая форма, но и языковая манера резко отличается от сурово-пленительных терцин Лозинского. «Здесь почти нет красоты слога, – пишет о своей работе Илюшин, – в том смысле, в каком она столь блистательно проявилась в тексте Лозинского.
«Эстетизмам» нередко предпочитаются «антиэстетизмы». Во имя чего? Все дело в том, что поэтическое слово Лозинского отточено, уверено в себе, с своей непогрешимо-исторической сочетаемости с контекстом, неотразимом обаянии, стилистической уместности и пр. Такой эффект удается тогда, когда мастер слова умело опирается на надежно выработанные и выверенные нормы литературного языка и поэтического вкуса – т. е. на то, на что никак не мог опереться сам Данте, будучи не столько наследником, сколько первооткрывателем поэтических сокровищ. У Лозинского – сформировавшееся, У Данте – формировавшееся»[38 - Илюшин А.А.Еще один разговор о Данте/Божественная комедия. Пер. с ит. А.А.Илюшина. М: Изд-во филол. фак-та МГУ, 1995. С. 27.].
Перефразируя Т. Адорно, мы вправе думать, что ничто не наносит такого ущерба искусству прошлого, как его аналогии с настоящим. Своими переводами знаток Данте и русской силлабики А. А. Илюшин ведет катакомбную археологическую работу, результатом которой оказываются непредвиденные открытия. Их значительность, в том числе и художественно-эстетическая значимость, подтверждается высокой оценкой труда переводчика на родине Данте. В Италии он удостоен золотой медали Флоренции. Труд Илюшина не только выдающееся событие русской или итальянской литературы, но и знак непреходящего торжества гуманитарных ценностей в трудно развивающемся человеческом сообществе.
Переводческая стратегия Б.К.Зайцева была иная. Он писал: «Предлагаемый перевод (…) сделан ритмической прозой строка в строку с подлинником. Форма эта избрана потому, что лучше передает дух и склад дантовского произведения, чем перевод терцинами, всегда уводящий далеко от подлинного текста, и придающий особый оттенок языку. Мне же как раз хотелось передать, по возможности, первозданную прототу и строгость дантовской речи»[39 - Цит.: Башмаков А.И., Башмаков М.И. Голос почерка. СПб.: Петрополис, 2009. с. 114.]. В предисловии к своему «Аду» Зайцев замечал: «Если попробовать рукой, на ощупь, то слова Данте благородно-шероховаты, как крупнозернистый мрамор, или позеленевшая, в патине, бронза. Часто он темен, даже и непонятен. Но для него – так и надо. Это его стиль. В нем есть, ведь, оракульское, пифическое»[40 - Данте Алигьери. Божественная Комедия. Ад. Перевод Бориса Зайцева. Париж: YMCA-PRESS, 1961. С. 27.]. Размышляя об интонации дантовских терцин, Зайцев отмечает: «Чтобы написать Ад, надо было «в озере своего сердца» собрать острую влагу скорби»[41 - Там же.]. Читатели это чувствуют. Один из них считает, что перевод Зайцева драматичнее, чем у Лозинского[42 - Комолова Н.Л. Работа Б.К.Зайцева над переводом «Ада» Данте ? ? Далекое, но близкое: Мат. литерат. чтений к 125-летию со дня рождения Бориса Зайцева. М.Стратегия, 2007. С. 22.].
Перевод бывшего профессора РГПУ В.Маранцмана иначе, как подвижническим, вряд ли назовешь. Если А.Илюшин провоцировал путешествие вглубь человечности и средневековой культуры, то Маранцман ставил задачу расширить круг читателей Данте, максимально приблизив текст оригинала к читателю. Именно поэтому он пошел вслед за Лозинским, пытаясь стать проводником широкой аудитории к выдающемуся литературному памятнику. Отмечая ряд формальных упущений, например, немыслимые для Данте неточные рифмы и etc, М. Гаспаров писал о высоком проценте точности перевода дантовской речи в процессе смыслообразования и современной лексики. По наблюдениям Гаспарова обычно в переводах коэффициент точности колеблется между 50 и 55 процентами: из подлинника сохраняется около половины слов, остальные заменяются или утрачиваются. В переводе Лозинского первой песни «Ада» коэффициент точности составляет 74 процента, вольности – 31 процент, соответственно 73 % точности и 27 % вольности – для XXX песни «Ада». Почти такие же показатели у Маранцмана: 73 % и 31 % для первой песни «Ада», а для XXX песни – 79 % и 28[43 - Гаспаров М.Л. Рецензия ? ? Данте Алигьери. Божественная Комедия. Пер. с ит. В.Г.Маранцмана. М.: Классик Стиль, 2003. с. 1.]. Иными словами, по точности перевод Маранцмана не уступает поэтически блистательному труду Лозинского, что внушает заслуженное уважение к автору нового перевода. Чем больше переводов, тем больше возможностей иметь Данте своим конфиденциальным собеседником. Читательская благодарность авторам переводов естественна и уместна.
Глава 2
Данте и русский романтизм
На исходе третьего десятилетия нового века П. А. Катенин писал на страницах «Литературной газеты»: «Теперь понаслышке и древним назло много хвалят Данте, но мало читают…». В этом резком суждении все же больше признания вдруг выросшей популярности итальянского поэта, нежели справедливости мнения, что в эту пору в России Данте уже «знали, но не читали»[44 - О начальных сведениях русской публики XVIII в. о Данте и его поэме см.: Алексеев М. П. Первое знакомство с Данте в России, – В кн.: От классицизма к романтизму. М.: Наука, 1970, с. 6–62.]. Конечно, круг читателей «отца новой Италии» (Шатобриан) был гораздо уже, чем, скажем, Шиллера или Шекспира. За пределами Италии интерес к Данте и его «Комедии» еще только начинался. Восемнадцатый век не питал особого пристрастия к изучению и переводам дантовских творений, и лишь в девятнадцатом столетии их число стало быстро умножаться. К концу века насчитывалось около пятисот переводов «Божественной Комедии». Но переводы далеко не всегда могли достойно представить художественные достоинства «Комедии». «К сожалению, – замечал тот же Катенин, – трудно не знающему итальянского языка познакомиться с сими изящными красотами: так они обезображены в переводах. Прозою перелагать Данте жалко; а стихами, тем паче соблюдая размер и мудреное сплетение подлинника, вряд ли примется терпеливо хоть один из нынешних стихотворцев»[45 - Катенин П.А. Размышления и разборы. М.: Искусство, 1981. С. 95.]. Русский поэт судил о рифах «переложения» поэмы по своему опыту, и его суждения касались не только соотечественников. «Легче одеть статую, чем перевести Данте», – говорил Байрон.
В конце 20-х – начале 30-х гг. русская публика, знающая итальянский язык гораздо менее, чем французский, знакомилась с «Комедией» преимущественно в переводах Арто де Монфора (1772–1849) и Антони Дешана (1800–1869). Именно ими был представлен «французский Данте» самых поздних изданий в собраниях Жуковского и Пушкина. Однако не все русские читатели довольствовались несовершенными копиями; многие из тех, кто переводил поэму или писал о Данте, читали его в подлиннике. Например, Жуковский сообщал о только что почившем И. Козлове: «Знавши прежде совершенно французский и итальянский языки, он уже на одре болезни, лишенный зрения, выучился по-английски и по-немецки <… он знал наизусть всего Байрона, все поэмы Вальтера Скотта, лучшие места из Шекспира и главные места из Данта»[46 - Жуковский В.А. О стихотворениях И.И.Козлова ? ? Современник, 1840. Т. 18. С. 87–88.]. Несколько раньше Бестужев-Марлинский уведомлял брата: «Занимаюсь плотно итальянским языком. Читаю Данта»[47 - Бестужев-Марлинский А.А. Соч.: В 2 т. Т. 2. М..: ГИХЛ, 1958. С. 669.]. В литературной и ученой среде итальянским владели А. А. Шаховской и С. Е. Раич, И. А. Крылов и К. Н. Батюшков, С. П. Шевырев и Н. А. Полевой, Д. Н. Блудов и Н. И. Бахтин, А. С. Пушкин и Д. В. Дашков. Уже этот достаточно пестрый перечень имен позволяет думать, что в России первой трети нового века о Данте и его «Комедии» знали не только понаслышке. В эту пору суровый флорентинец заслонил собой Торкватто Тассо и стал в глазах образованного читателя олицетворением итальянской литературы, ее полномочным представителем. В этом отношении примечательно суждение И.М. Муравьева-Апостола: «Прочитай Данте на итальянском, Сервантеса на испанском, Шекспира на английском, Шиллера на немецком, тогда ты приобретешь некоторое право произносить над ними приговор»[48 - Сын Отечества, 1813. Ч.1Х. № XIV. С. 228–229.]. Среди писателей, чьи имена стали представительным паролем той или иной западноевропейской литературы, несколько неожиданно, но заслуженно называется Данте.
Имя Данте мелькает и в частной переписке, и на страницах русской печати. Так, в 1811 г. К-Н. Батюшков пишет Н. И. Гнедичу из деревни: «Я сию минуту читал Ариосто, дышал свежим воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данте, Тасса и сладостного Петрарка…»[49 - Батюшков К.Н. Соч.: В 3 т. Т. 3. СПб.: Изд-во П.Н.Батюшкова, 1886. С. 165.] Любопытно, что недавно один весьма авторитетный дантолог высказал удивление, что Батюшков, «первый из русских поэтов, вполне овладевший итальянским языком, не подарил своего внимания Данте»[50 - Голенищев-Кутузов Н.П. Творчество Данте и мировая культура. М.: Наука, 1971. С. 465. Заметим, что первым из русских поэтов, в совершенстве знавших итальянский язык, был не Батюшков, а любимый им Кантемир.]. Но это не совсем так. В проспект переводов, который был выслан в 1817 г. Гнедину, Батюшков включил «Божественную Комедию», а кроме того – статью «О жизни Данте и его поэме»[51 - Батюшков К.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 423.]. Статья об итальянском поэте была давним замыслом Батюшкова. Еще раньше он сообщал тому же адресату, что не написал обещанной статьи, ибо был болен и не имел под рукой нужных книг[52 - Там же, С. 399.]. Видимо, только тяжкая душевная болезнь помешала Батюшкову приступить к работе над переводом Данте и статьей или книгой о нем. Впрочем, некоторые из современников русского поэта уверяли, что обещанный перевод Данте все же был выполнен им, но он сжег его в минуту душевных мук и уже безумной ненависти к своему дарованию, когда неизличимо больной навсегда возвращался на родину из-за границы[53 - Стурдза А. С. «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас» в царствование Александра I и мои воспоминания. – Москвитянин, 1851. Ч. 6. № 21. С. 16.]. Насколько это показание соответствует истине, проверить невозможно, но мысль Батюшкова, пока была ясной, часто обращалась к Данте[54 - Об этом: Пильщиков И.А. Из истории русско-итальянских связей (Батюшков, Петрарка, Данте) ? ? Дантовские чтения. 1998. М.: Наука, 2000. С. 8–32; Пильщиков И. А. Батюшков и литература Италии. Филологические разыскания. М.: Яз. слав, культуры: А.Кошелев, 2003.]. В последние месяцы своей здоровой жизни он писал А. И. Тургеневу из Неаполя: «Вы читаете Данта, завидую вам»[55 - Тургенев А. И. Хроника русского…, С. 222.]. «Данте, – полагал Батюшков, – великий поэт: он говорит памяти, глазам, уху, рассудку, воображению, сердцу»[56 - Батюшков К. Н. Соч. Архангельск: Сев. – Зап. кн. изд-во, 1971. С. 351.].
Страстным почитателем сурового тосканца был «один из первых апостолов романтизма» [57 - Пушкин А. С. О сочинениях П. А. Катенина. – Поли. собр. соч.: В 16-ти тт. (Юбилейное). Т. XI. М.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. С. 220.] Павел Катенин. «Боже! – восклицал он, – какой великий гений этот Данте! <…> вот истинно национальный поэт»[58 - Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века. СПб: Б./и., 1911.С. 118.]. В устах Катенина, воителя за «народность» и самобытность отечественной словесности, замечание о национальном содержании дантовского творчества было равнозначно убеждению в романтическом характере «Божественной Комедии». Это представляется еще более очевидным, если сопоставить утверждение Катенина, что в Италии «истинная поэзия родилась и исчезла с Данте»[59 - Катенин П. А. Указ соч. С. 100.], с предшествующим ему суждением уже зрелого Пушкина: «В Италии, кроме Данте единственно, не было романтизма. А он в Италии-то и возник»[60 - Пушкин А. С. Указ. соч. Т. XIII. С. 184.]. Явное сходство этих соображений однако не означает зависимости Катенина от признанного и высокого авторитета.
Еще в 1822 г., формулируя, по существу, принципиальные положения романтической эстетики, Катенин приводил в качестве примера ряд имен и среди них Данте. «Я вообще не терплю школ в словесности, – писал он, – их быть не должно. Всякий пиши сам по себе, как знаешь; всем один судья – потомство. Превосходные, образцовые писатели нигде не волокли за собою кучи ничтожных подражателей <…> Ни Данте, ни Тасс, ни Камоэнс, ни Сервантес, ни Шекспир, ни Расин, ни Мольер не предводительствовали полками пигмеев»[61 - Сын Отечества, 1822. № 13. С. 251.]. В этом перечне «образцовых писателей», ориентированном на защиту романтизма, имена Расина и Мольера могут вызвать понятное недоумение, но нужно помнить о неоднозначной литературной позиции «младшего архаиста», который «почтенную старину» зачастую противопоставлял «тощим мечтаниям» «самозванцев-романтиков» или карамзинистов. Например, главное достоинство библейских трагедий Расина «Эсфирь» и «Гофолия» он видел в национально-историческом колорите: в них, замечал Катенин, «нет ничего французского, все дышит древним Иерусалимом»[62 - Литературная газета. 1830. № 7. С. 285.].
Близкий к Катенину В. К. Кюхельбекер писал совершенно в духе своего единомышленника: «…у нас были и есть поэты (хотя их и немного) с воображением неробким, с словом немногословным, неразведенным водою благозвучных, пустых эпитетов. Не говорю уже о Державине! Не таков, например, в некоторых своих стихотворениях Катенин, которого баллады: Мстислав, Убийца, Наташа, Леший, еще только попытки, однако же (да не рассердятся наши весьма хладнокровные, весьма осторожные, весьма не романтические самозванцы-романтики!) по сию пору одни, может быть, во всей нашей словесности принадлежат поэзии романтической»[63 - Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 493.].
В свою очередь Катенин сочувственно откликнулся на боевую статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824)[64 - См.: Письма П. А. Катенина… С. 73–74.]. В статье автор, в частности, заявлял: «Но что такое поэзия романтическая? Она родилась в Провансе и воспитала Даита, который дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго рабского подражания римлянам, которые сами были единственно подражателями греков, и решился бороться с ними. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную, народную, стали называть романтической»[65 - Кюхельбекер В. К. Путешествие… С. 455–456.]. Вероятно, Катенин был совершенно согласен с такой концепцией романтизма, тем более, что она восходит к положениям французского историка литературы Ж.-Ш. Сисмонди, труды которого «De la litterature du midi de ГЕигоре» поэт знал и высоко ценил. В «Письме к издателю „Сына Отечества”» он упрекал Н.П. Греча в подмене истории литературы «послужными списками писателей» и наставлял: «Если б по примеру Женгене и Сисмонди вы показывали тесную связь жизни автора с его творениями и взаимное их влияние, это было бы весьма любопытно, но этого нет»[66 - Сын Отечества, 1822. Ч. 76, № 13. С. 252.].
По свидетельству Пушкина, Катенин первый ввел в круг «возвышенной поэзии язык и предметы простонародные»[67 - Пушкин А. С. Указ. соч. Т. XI. С. 220.]. Это соответствовало устремлениям архаистов-романтиков к литературному преобразованию, к утверждению национально-характерных «красок и форм». С другой стороны, несомненно важной для катенинской группы была мысль о том, что формы стихотворений замечательны, как писал Катенин, не собственно по себе, а по связи своей с содержанием: «с изменением его должен измениться и наружный вид»[68 - Литературная газета, 1830. № 4. С.31.]. Такие эстетические воззрения подготовили благодатную почву для восприятия стилевого своеобразия художественной речи «Божественной Комедии». По ее поводу Катенин писал: «О слоге судить прежде всего соотечественникам, но и тут, мне кажется, судили с неразумной строгостью; многие обветшалые слова и обороты могут быть, вопреки нынешнему употреблению, весьма хороши; язык Данте чудесно благороден и всеобъемлющ; на все высокое и низкое, страшное и нежное находит он приличнейшее выражение, и тем несравненно разнообразен; а для нас, северных, именно по вкусу, в нем нет еще той напевной приторной роскоши звуков, которую сами итальянцы напоследок в своих стихах заметили»[69 - Катенин П. А. Указ соч. С. 94.]. Верно уловив стилевые особенности «Комедии», Катенин стремился передать их в своем переводе трех песен поэмы[70 - Об этом: Гардзонио С. Роль Катенина в становлении русского метрического эквивалента итальянского эндекасиллаба ? ? La traduzione letteraria dal russo nelle lingue romanze in russo. Milano: Cisalpino-Gollardica, 1979. C. 159–171; Акимова M.B. «…Переводить Данте in rima terza… ужасно». История текста катенинских переводов «Inferno» // Дантовские чтения. 1998. М.: Наука, 2000. С. 33–70.]. В 1829 г. он писал Н. И. Бахтину: «…обращаюсь к замечаниям Вашим на перевод второй и третьей песни «Ада»:
Я ни Эней, ни Павел, и в себе
Не зрю один достоинств чрез меру [АД, II, 32–33].
Переменить зрю на чту легко; но лучше ли будет? оба глагола равно к разговорному языку не принадлежат, и им одним переводить Данте нельзя и не должно; надо его искусно только смешивать с книжным и высоким, избегая скачков; но зрю мне кажется здесь живее, нежели чту, или не мню»[71 - Письма П. А. Катенина… С. 52.].
В свое время Ю. Н. Тынянов расценил переводы Катенина из Данте как «языковую неудачу». Он утверждал, что соединение крайних архаизмов с просторечием давало семантическую какофонию, приводящую к комизму[72 - Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1968. С. 72.]. В качестве примеров Тынянов приводил 12, 18 терцины из первой песни, 14, 23, 34, частично 16, 17, 44 и 45 – из третьей и некоторые стихи из фрагмента «Уголин». Нельзя не согласиться с исследователем, что цитируемые им стихи, кстати, слабейшие в катенинских переводах, провоцируют порой на пародию. Но как тут не вспомнить возражения Катенина Гречу, который осудил вариант октавы, предложенный поэтом в «Освобожденном Иерусалиме», сравнив его с гекзаметрами «Тилемахиды»: «моя неудача, – отвечал Катенин, – ничего не доказывает, так же как неудача Тредьяковского в эксаметрах, которыми, однако, и вы и он (т. е. О.М. Сомов и Н.П. Греч. – А. А.) равно восхищаетесь под искусным пером»[73 - Сын Отечества, 1822. № 21. С. 30–31.]. Действительно, несмотря на отдельные промахи, «семантические провалы» и «словесные перенапряжения», на которые указывал Ю.Н. Тынянов, в целом работа Катенина оказалась стилистическим открытием «Ада» для русского языка. Ритм катенинских терцин был сразу же подхвачен Пушкиным («В начале жизни…»), который в статье о сочинениях поэта отмечал «мастерской перевод трех песен „Inferno”»[74 - Пушкин А. С. Указ соч. Т. XI. С. 220. Об особенностях освоения дантовского стиха в России XIX века см.: Серков С.Р. Строфой великого флорентийца. Русская терцина ? ?Дантовские чтения. М.: Наука, 1989. С. 18–40.], позднее А. Н. Майковым («Вихрь»), А. А. Блоком («Песнь Ада»), наконец в наше время стилистической системе Катенина следовал один из лучших переводчиков «Божественной Комедии» М. Л. Лозинский. Таким образом, история перевода поэмы оправдывает опыты Катенина даже перед лицом такого авторитетного критика, каким был Ю. Тынянов.
П. А. Катенин явился одним из первых русских популяризаторов и комментаторов «Комедии». На страницах «Литературной газеты» он делился своими наблюдениями: «Первый известный Ад встречается в «Одиссее». Место ему избрал Гомер на краю моря, на хладном Севере <…> При всей краткости и простоте сего Ада нельзя не признать живости изображения; это настоящий ад по понятию древних, мрачная обитель утративших солнце великих жен и мужей. Вергилий, по моему мнению, далеко отстал; у него сход в ад, уже подземный, в Италии <…> Вместо чудесного царства мертвых видим мы простой дом с разными приделками, потаенными ходами <…> Не знаю, страшно ли все это в самом деле, но в рассказе очень холодно и почти смешно.
Хотя Мильтон писал горазде после Данте, но для сличения скажем здесь и об его аде. Он решительно хуже всех: главнейшего в нем совсем нет – людей; черти же, несмотря на огненные вихри и прочие lieux communs, живут там преспокойно…
Данте определил место своего Ада с таким же тщанием и точностью, как Гомер. Во внутренности земного шара занимает он огромный конус, вниз обращенный и сходящийся в точку в самой сердцевине земли»[75 - Катенин П. А. Указ соч. С. 90–91.]. В этих рассуждениях подкупает стремление автора рассматривать литературное явление с исторической точки зрения, найти начало и продолжение складывающейся в веках традиции: «…собрав все занятое им у других, – отмечал Катенин, – Данте все сложил и своим дополнил»[76 - Там же. С. 89.]. Закончив подробную топо- и космографию Ада, Чистилища и Рая, он продолжал: «В изумление приходишь, окинув взглядом сей огромный чертеж»[77 - Там же. С. 91. Ср.: «…единый план «Ада» есть уже плод высокого гения» (Пушкин А. С. Заметки по поводу статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии». – Указ соч. Т. XI. С. 42).]. В своем комментарии к поэме Катенин нередко следовал за П.-Л. Женгене и Ж-Ш. Сисмонди, но некоторые из его замечаний отличаются оригинальностью и тонкостью наблюдений. Для входа в Ад, писал он, Данте прибегнул к аллегории, «и здесь она точно у места; она только могла склонить читателя к таинственной безотчетной вере в повествуемое сверхъестественное странствование живого человека под землею и в небесах; всякий другой вымысел, пробуждая сомнения и поверки рассудка, показался бы холоден и лжив»[78 - Катенин П. А. Указ соч., с. 92.]. Интерес к Данте никогда не оставлял поэта. Прожив полвека, он писал своему издателю и другу: «Флоренция, Данте <…> я любил их всегда <…> Можете ли для меня купить и привезти хорошее издание Divina Commedia, с изъяснениями?»[79 - Письма П. А. Катенина… С. 239.]
Страстное увлечение Данте, к которому Катенин чувствовал особую близость, вероятно, в силу своего стремления к простоте и энергии языка, «исторической народности» величавой поэзии и грубой красоте образов «Ада», самым неожиданным образом влияло на восприятие поэтом сочинений его современников. «Прочел у Пушкина «Полтаву», – писал он, – вещь не без достоинства, но лучшие места не свои; тут и Данте, и Гете, и Байрон…»[80 - Там же. С. 145.* Общие места.]. С другой стороны, приятель и родственник Катенина Кюхельбекер находил «дикие краски Данта» в катенинском стихотворении «Мстислав Мстиславич» (1819):
Вздохи тяжелые грудь воздымают;
Пот, с кровью смешанный, каплет с главы;
Жаждой и прахом уста засыхают…
«Превосходно!»[81 - Кюхельбекер В. К. Путешествие… С. 437.] – комментировал Кюхельбекер. Он, как и Катенин, «служил в дружине славян»[82 - Там же. С. 222.]. Романтизм начинался для него с Данте, но кумиром его был не Алигьери, а Шекспир. В 1824 г. Кюхельбекер писал в «Мнемозине»: «Не уровню Байрона Шекспиру: но Байрон об руку с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, Шиллером <…> перейдет несомненно в дальнейшее потомство»[83 - Там же. С. 467.]. По мнению Кюхельбекера, Байрон – «живописец нравственных ужасов, опустошенных душ <…> живописец душевного ада, наследник Данта, живописца ада вещественного»[84 - Там же. С. 466.], в этом их различие, и в этом их типологическое сходство: как тот, так и другой знали непомерную глубину мрака; вместе с тем оба однообразны[85 - Там же.].
Интересно, что в критическом отношении к Байрону Кюхельбекер единодушен с Катениным, обоим был чужд предельный субъективизм и односторонность английского барда[86 - Ср.: Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человеческую, потом отвратился от них и погрузился в самого себя». – Пушкин А.С. Поли. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М.:ГИХЛ, 1936. С. 53.]. Восприятие же Данте было у поэтов поначалу различным. «Буде кто в человеках заслуживает имя творца, то паче всех он»[87 - Катенин П. А. Указ соч. С. 89.], – говорил Катенин о Данте. Подобное представление о масштабе гения средневекового поэта пришло к Кюхельбекеру не сразу. Через десять лет после выступления на страницах «Мнемозины» он сочувственно цитирует Виктора Гюго: «Два соперничествующие гения человечества, Гомер и Данте, сливают воедино свой двойственный пламень, и из сего пламени исторгается Шекспир»[88 - Кюхельбекер В.К.Путешествие… С. 311.]. Противопоставление как равных «исполина между исполинами» Гомера и Алигьери сейчас не вызывает у Кюхельбекера никакого возражения. Мало того, он согласен рассматривать последнего как предтечу истинного романтика, каким был в его представлении «огромный Шекспир».
Думается, что к Данте Кюхельбекер шел через осознание трагической судьбы флорентийского поэта, ибо она ассоциировалась с его собственной судьбой. Недаром этот узник Динабургской крепости, сообщая о своей новой поэме, в которой «частная, личная исповедь всего того, что <…> в пять лет <…> заточения волновало, утешало, мучило, обманывало, ссорило и мирило с самим собою»[89 - Кюхельбекер В.К. письмо А.С.Пушкину. 20.Х. 1830. Динабург. – Переписка А.С.Пушкина: В 2 тт. Т. 2. М.: Худож. лит., 1982. С. 241.], называет вдохновителей своего труда и среди них указывает на изгнанника Флоренции: «Начал я, – пишет он, – нечто эпическое; это нечто, надеюсь, будет по крайной мере столько же ориганально в своем роде, как «Ижорский». Оно в терцинах, в 10 книгах, 9 кончены, название «Давид», руководители Тасс, отчасти Даит, но преимущественно Библия»[90 - Кюхельбекер В.К. Путешествие… С. 622.]. Если ветхозаветное повествование о царе Давиде послужило фабулой для поэмы, а «Освобожденный Иерусалим» Торкватто Тассо стал примером для организации и развертывания материала в эпическом сочинении, то обращение к Данте было прежде всего свидетельством гордого самосознания и стойкости духа поэта-декабриста. В этом убеждают и слова Байрона о Данте: «Он – поэт свободы. Гонения, изгнание, горесть от мысли, что будет погребен в чужой земле, ничто его не поколебало»[91 - Цит. по кн.: Эдвин Т. Заметки о лорде Байроне. СПб: Б. и., 1835. С. 192.]. Именно своей суровой судьбе обязан Данте тому, что новая поэма русского революционера оказалась обрученной с его именем.
Не силою чудесной дарованья —
Злосчастием равняюсь я с тобой [92 - Кюхельбекер В. К. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. М.; Л.: Сов. писатель 1967. С. 372.], —
писал Кюхельбекер, имея в виду Данте.
Вместе с тем устремленность русского поэта к Алигьери не ограничивается этой аналогией. Она проявляется и в иных мотивах предпринятой поэмы. Одни из них связаны с эпическим повествованием о подвигах и невзгодах Давида, другие – с чувствами и помыслами самого автора, то есть с субъективным планом произведения, который развертывается в форме лирических отступлений повествователя. В эпическом плане проблематика поэмы сводится к замыслу вызвать «из тьмы веков, из алчных уст забвенья» имена тех вождей, жизнь которых может служить уроком мужества и самоотверженности для современников поэта. Это решение выражено в стихах первой книги «Давида» – «Преддверие»:
Опасный, трудный подвиг предприемлю:
Царя, певца, воителя пою;
Все три венца Давид, пастух счастливый,
Стяжал и собрал на главу свою[93 - Кюхельбекер В. К. Избр. произв. Т. I. С. 350.].
Образ легендарного царя Давида был одним из любимых у декабристов и поэтов, близких к ним. Давиду посвящали свои стихи П. Катенин, Ф. Глинка, А. Грибоедов, Н. Гнедич. В стихотворении «Мир поэта» (1822) Катенин предвосхитил Кюхельбекера почти слово в слово:
Царь, пастырь, воин и певец
Весь жизни цвет собрал в себе едином [94 - Катенин П. А. Избр. произв. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. С. 118.].
Повышенный интерес декабристов к этому библейскому персонажу объясняют стихи Ф. Н. Глинки:
Бог избрал кроткого Давида,
И дал он юному борцу
Свой дух, свое благословенье,
И повелел престать беде,