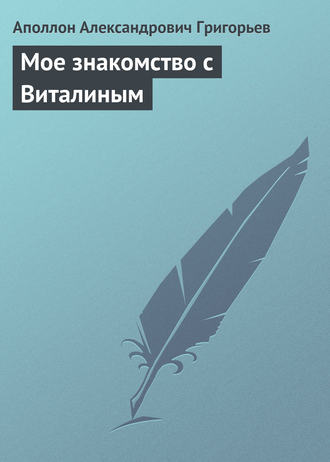
Мое знакомство с Виталиным
Зала была еще не освещена. Она сидела за роялем; звуки «Страньеры» сменились звуками мазурки Шопена, от которой мне становится всегда невыносимо грустно.
Я стоял против нее, опершись на доску. Разговор наш был вял и странен… К чему-то сказал я ей, что бог создал ее так скупо и так полно вместе, и вспомнил «One shade the more, one rey the lesse»[14] Байрона…
Во все существо ее проникло с недавних пор нервическое страдание. Она больна, – она становится капризна: ее глаза горят болезненно.
Она жаловалась на людей, на жизнь, я молчал.
Она сказала, что желала бы умереть скорее.
Я молчал.
Она продолжала, – что при смерти, по крайней мере, можно быть откровенною.
Со мною начинался лихорадочный трепет.
– Послушайте, – сказал я ей, – страшно, когда человек обязан говорить не то, что думает.
И чтобы скрыть судорожный трепет, я подошел к лампе засветить сигару.
Октября 4.День рождения Старского; у него было народу более обыкновенного… между прочим, какой-то офицер с женою, их родственник, и два каких-то новых женских лица: одна, кажется, старая дева, от нечего делать ударившаяся в ученость, другая ее сестра, довольно молодая и, как говорят, невеста. Я был как-то в духе и потому говорил много с обеими… одна, молодая, рассыпалась в прекрасных чувствованиях. Я не замедлил воспользоваться этим и сказать об этом Антонии под конец вечера.
– Я как-то не могу никак расчувствоваться, – говорила она, смеясь нервически…
Я не отвечал на это, но через несколько минут пропел стихи поэта:
Ее душа была одна из тех,Которым в жизни ровно все понятно,[15] и т. д.Читая это, я смотрел ей в глаза так прямо и спокойно, как будто бы в целом мире не было никого, кроме ее и меня.
Октября 10.Да, чем больше я думаю о себе самом и о своих отношениях вообще, тем яснее и понятнее для меня мысль, что так не живут на свете… Три вещи могли бы оправдать мои нелепые требования от жизни, и это – или богатство, или гений, или смерть…
Богатство?… Зачем до сих пор я не могу выжить из себя детской мысли о падающих с неба миллионах!..
Гений?… Я самолюбив, может быть, – но все еще чего-то жду от самого себя.
Смерть!.. Я умер бы спокойно, если б она пришла; но – или жизнь слишком мало дала мне – или в моих требованиях лежит предчувствие, – я жду еще от жизни и буду ждать, кажется, вечно чего-то.
Почему? этого я сам не знаю, потому что, кроме безумных требований, не имею я никаких прав на исключительное счастие.
Декабря 31.«Руки твои горячи – а сердце холодно», – говорила мне сегодня одна женщина, и я ей верю. В самом деле, рано начавшаяся жизнь мысли состарила мое сердце. Давно просвещенный воображением, я внес в действительность одно утомление и скуку… С восторгом приветствую я все, что может сколько-нибудь раздражать притупившиеся чувства. Таковы все мы – все мы потеряли вкус в простом и обыкновенном; нам давай болезненного!
Я пошел с тяжелым чувством на душе на вечер к ним – и это чувство оправдалось. Антония встретила меня вопросом: отчего со мною нет Валдайского?[16] Я принужден был солгать, потому что нельзя же было сказать настоящей причины того, что я не звал его с собою… А настоящая-то причина гадка, да, гадка, потому что это – ревность!..
Да, я готов ревновать ее к каждому, кто на нее взглянет. По какому праву?… Не знаю, но я глубоко ненавижу каждого, о ком она вспомнит случайно, но я бы хотел, чтобы она любила меня с забвением всех и каждого… О! я хотел бы быть богат, славен, хотел бы быть выше всех – только для этого. Глупо, безрассудно, но что же делать? Так я создан… Она должна была играть что-то, что она очень долго приготовляла. Мне было досадно на нее, на ее мать, на всех, досадно, потому что это было что-то парадное, что это не шло к ней. Когда она села за рояль, – я стал против нее. Сестра ее подошла ко мне и попросила меня отойти в сторону.
Антония сбилась на четвертом такте и ушла чуть не в слезах.
Я торжествовал – но ее волнение оскорбило меня, казалось мне мелочностью.
– Вы слишком свыше этих торжеств, – сказал я ей потом… Пришедши домой, я рыдал, как женщина, как ребенок.
Января 4.Опять у них вечер; Валдайский явился по приглашению… Неужели и этого человека начинаю я наконец ненавидеть?… Недавно еще познакомясь с семейством, он держит себя свободнее меня. Он говорит с нею беспрестанно; она его слушает.
И между тем нынче же, когда, почти не в силах пересилить самого себя, не в силах ни с кем говорить, сел я один в углу залы, – она взглянула на меня и потом попросила офицера, который, в прибавок ко всем своим достоинствам, поет еще романсы, петь: «Ты помнишь ли?» Варламова… Слова необычайно глупы, но в них видел я какую-то связь с прошедшим…
Но если я обманут, о мой боже!.. Если вовсе никогда она меня не любила. Если все это – только призраки моего воображения?… Если я смешон?…
Офицер запел:
Горные вершиныСпят во тьме ночной…[17]Она грустно склонила голову.
Я стоял за нею, пожирая глазами ее открытые плечи, боясь перевести дыхание.
Она казалась так грустна, так больна!
Я готов был плакать.
Января 7.Да, чем больше я вглядываюсь в эту природу, тем она становится мне непонятнее… тем я больше люблю ее. Зачем так полны значения наши разговоры о совершенно общих предметах, наши разговоры, которые ведутся при матери, при других. Мы говорили нынче о ревности. Я защищал это чувство… Она сказала, что ревность оскорбительна.
Сестра ее пела в гостиной старый романс: «Oublions-nous»,[18] который бог знает почему-то попал к ней в милость.
– Бросьте эту пошлость, – сказал я, подходя к ней вместе с Антонией.
– Пошлость? почему же? – спросила Антония.
Я сказал, что люди расстаются не так.
– Полноте, все так кончается, – заметила она с недоверчивою улыбкою.
– Нет, – отвечал я, – кончается часто и серьезнее…
О, моя бедная жизнь, долго ли будешь ты в противоречии с моими словами?!
Пришел какой-то господин, который не помешал мне, впрочем, говорить с матерью о том, о чем изо всех женщин можно говорить только с ней – о настоящем состоянии общества. Я был зол и резок.
Антония слушала меня слишком серьезно…
Я начал говорить о моих верованиях, – о той молитве, которою я могу молиться, которою наполняет мою душу Вечное целое!
– Вы с ним согласны? – спросил господин Антонию, которая, наклонясь к столу, задумчиво чертила по нему пальцем.
– Вполне, – отвечала она быстро и живо.
Января 9.Валдайский заехал ко мне нынче и просидел целый вечер… Он прямо сказал мне, что видит меня насквозь. Я не отпирался – да и к чему?… Разве моя любовь бросает на нее тень?… Он говорил мне потом, что я ревнив и что ревновать смешно и странно. Я согласился, что это так – да и сам я знаю, что это так.
Февраля 1.Она больна – и говорит, что боится смерти…
Я стал было говорить что-то о бессмертии: но скоро заметил, что мне это вовсе не пристало.
Я начал о смерти…
Мы сидели вдали от всех, у маленького стола в гостиной; она на диване, я против нее на креслах, неподвижно прильнувши взглядом к ее голубым глазам, сверкавшим блеском лихорадки.
О, зачем я не мог быть у ног ее, зачем не мог я целовать пальцы ее бледной прозрачной руки!
Пора все это кончить…
Февраля 10.Да – это должно было кончиться так, а не иначе. Всякое ложное положение рано или поздно рассекается разом, как Гордиев узел.
Я еду – и никто этого не знает.
Вечером.
В последний раз пошел к ним. У них сидел Валдайский. Я был невольно зол и болен; он сыпал остроумие.
– До свидания, – сказал я, взявшись за шляпу.
– Прощайте, – обратился я к ней.
И я вышел…
Навсегда!..
* * *Этим кончаются записки Виталина, – потому что на другой день после последнего свидания он уехал из Москвы. Я нарочно оставил эти записки во всей их отрывочности, хотя после Виталин рассказывал мне подробно всю историю. Дело в том, что эта история – слишком старая история. Пускай в партиции уцелеют одни эффектные места; зачем нам речитативы? Как итальянцы оперу, – слушаем мы всегда чужую исповедь и принимаем в ней к сердцу только сродные нам впечатления.
III. Поэт в домашней жизни
Познакомиться с Виталиным было для меня дело очень нетрудное. В одно прекрасное утро – и слово «прекрасное» употребляю я здесь вовсе не для украшения – я взял извозчика и велел ехать ему к Крестовскому перевозу, в одну из Колтовских,[19] где жил в это время Виталин. Он нанимал очень большую квартиру, которая хотя и не отличалась комфортом, но обличала привычки порядочного человека…
Виталин принял меня в халате, спросил, что мне угодно, и когда я, отдавая ему рукопись, объявил, в чем дело, он просил меня садиться.
– Верно, Брага на меня сердится? – спросил он, перевертывая тетради… – Чудак, ей-богу, – продолжал он… – Вы давно его знаете?
– Я познакомился с ним в Москве, – отвечал я.
– А вы давно из Москвы?
Я сказал ему.
Между нами завязался разговор о Москве. Оказалось, что у нас есть очень много общих знакомых и что мы чуть ли даже не встречались у кого-нибудь из них.
От Москвы разговор перешел на Петербург, от Петербурга мало-помалу на такие пункты, на которых люди, несколько жившие, скоро сходятся один с другим.
Мы сошлись с Виталиным с первого раза, хотя никогда не сделались друзьями, потому что обоим нам равно, кажется, надоели разные дружбы. Дружба обязывает к разного рода услугам и даже пожертвованиям, а всякая обязанность слишком тягостна и скучна; и притом же бывают годы, когда люди перестают искать в других любви или уважения, а просто ищут развлечения, без всяких дальнейших претензий. Виталин был рад, что нашел во мне человека, способного угадывать мысль его по полуслову, я также был очень доволен тем, что мне было с кем говорить. Найти человека, с которым можно говорить, не рассуждать, по просто говорить, более еще, с которым можно подчас и молчать без всякой неловкости, не думая ни обидеть его, ни внушать о себе невыгодной мысли, – о! это дело очень трудное. Я знавал людей, которые во внутри души оскорблялись тем, что я часто с ними молчал, хотя это-то it показывало мое полное к ним уважение. Говорить – но о чем же говорить, о мой боже? Говорить – значит, лгать, ибо слова существуют вовсе не для того, чтобы высказывать мысли, а разве для того, чтобы их скрывать.[20] В Москве я позволял себе говорить об интересах человечества, потому что там господствует общая мания прикрывать ими интересы праздности, но в Петербурге заботиться о прикрытии его драгоценнейших интересов, интересов кармана, – было бы непозволительно смешно… С Виталиным мы касались часто самых глубоких современных вопросов, по тотчас же и оставляли этот разговор, потому что с первого же раза нашли, что нам нечем удивлять один другого. Да и чем же, в самом деле? Не ненавистию ли к старым преданиям? Но мы предпочитали смеяться над ними на самом деле и делом доказывать полное к ним презрение…
Я стал ходить к Виталину каждый день, и целые дни, лежа па двух противоположных диванах, мы не могли наговориться друг с другом. Мы говорили о вздоре, если хотите, но не скучали. Потом мы даже полюбили друг друга, но эта любовь не влекла за собою никогда тягостных обязанностей, уничтожения одной личности в пользу другой. Когда у кого-либо из нас случались деньги, мы занимали друг у друга, и, разумеется, без отдачи, но никто из нас и не подумал бы даже просить другого хлопотать о деньгах – я потому, что знал слишком хорошо собственную лень и верил в лень других, – он потому, что слишком хорошо знал людей и их привязанность к благородным металлам…
Для Виталина я стал необходим и потому еще, что, хотя он и был человек порядочный, но все же за ним водилась общая слабость писателей, а именно – охота поговорить о своих произведениях. Впрочем, я слушал с удовольствием и сочинения его и планы сочинений, хотя более любил его одушевленные и злые рассказы о своей жизни, о Москве, о прошедшем – и его цинические выходки, из которых в особенности нравилась мне одна. Он говаривал часто, что жалеет о тех временах, когда можно было жениться по заказу и не видать в глаза жены. Я хохотал этому, но внутри себя считал неневозможностью решимость на такой брак, не для самых денег, разумеется, но для многого, что достигается посредством денег.
Виталин жил порядочнее прежнего, но старая страсть попадать в неоплатные долги еще его не оставила. Часто бывал я свидетелем забавных сцен его с кредиторами.
Раз как-то я пришел к нему очень рано. Он лежал еще в постели, а перед ним, посередине комнаты, стоял юноша в чиновническом фраке, с физиономиею птицы, которой нос оседлан был золотыми очками. Он жарко ораторствовал и размахивал руками.
– Почтеннейший мой, – говорил, потягиваясь, Виталин, – ведь мне вас жаль, право, вы на извозчиках проездите гораздо больше того, что я вам должен.
– Вы же еще мне это говорите? – возразил птицеподобный человек, с трагическим укором: – я вам давал, как московскому приятелю, без расписки.
– Эх! – отвечал зевнувши и с маленькою досадою Арсений: – кто же вам велел? Думаете ли вы, что приятны очень подобные посещения?
– Так вы меня гоните? – спрашивал тот с чувством глубокого оскорбленного достоинства.
– Вы меня не хотите понять, – спокойно сказал Арсений… – Дело в том только, что вещи так не делаются. Люди порядочные подадут ко взысканию, но будут говорить пристойно и весело.
– Да, а по-московски не так, – кричал птичий нос, – по-московски – выскажешь, что на душе есть, а потом зла не помнишь.
– Деликатно, – не правда ли, как ты думаешь? – обратился ко мне Виталин.
– Вы же еще смеетесь, – говорил птичий нос.
– Да что же делать-то? Нет денег ни копейки нынче, – отвечал мой приятель. – Хотите, я вам дам расписку?
Побежденный таким великодушием, птичий нос затянулся Жуковым[21] и ушел.
Мы оба хохотали до упаду.
Я бывал свидетелем не одной такой сцены и в каждой изумлялся всегда непобедимому хладнокровию Виталина.
Ежедневно вечером являлась к нам Склонская, которая жила также на даче. Эта женщина была в состоянии изумить даже меня, потому что я как-то не верю в женскую характерность.
Когда она приходила, ни он, ни я не изменяли предмета разговора, каков бы этот разговор ни был, ибо мы считали ее себе равною.
Она уходила обыкновенно в 10 часов.
Тогда для Виталина начиналось единственное состояние души, которого он не хотел разделять даже с нею, состояние невыносимой тоски, особенно в светлые петербургские ночи. Мы уходили с ним к Неве, – но он шел со мною, вовсе не надеясь и не ища исцеления. Светлая ночь, кажется, раздражала его еще более. Речи его становились полны сухой, безнадежной иронии; на все, что окружало его, для него налегало страдание.
– Это одно, чего я не могу пересилить, – говаривал он мне часто.
Мысль ли об Антонии, иное ли что отравило его существование, этого узнать мне не удалось. Из темных намеков мог я догадываться, что кроме встречи с Антонией была для него еще роковая встреча. Антония отравила ему любовь, – но для него была также отравлена истина.
Впрочем, истина полная едва ли бы его и успокоила. Он как-то был всегда наклонен к мистицизму.
Так текла наша жизнь, однообразная, свободная, почти без забот и без будущего, – до встречи с одним… существом, потому что этого существа я не решаюсь назвать человеком. Встреча эта не изменила ничего во внешних обстоятельствах, но на сердце каждого из нас начертила она неизгладимое, новое слово разубеждения, – но в душе Виталина потрясла она основу его верований, ту мысль, что то, чего ждет живая душа, непременно рано или поздно сбывается.
Это была встреча – с Антошею.
О нем – когда-нибудь после.
До свидания![22]
Примечания
1
…в кондитерской Вольфа… – Она помещалась в доме № 18 по Невскому просп.
2
Г. в 1845 г. начинал уже разочаровываться в утопических теориях Фурье, поэтому в данной тираде чувствуется ирония.
3
Источник не обнаружен; возможно, что это вариация на тему поэмы Г. «Олимпий Радин» (1845):
… в молодости былГотов глубоко верить он… и потомуТеперь лишь верит одному,Что верить вообще смешно…4
Фонтанели – гнойные раны.
5
Антония – реальным прототипом является Антонина Корш.
6
Никита Степаныч – так зашифрован Н. И. Крылов.
7
Аэрьена – коляска без крыши.
8
Старские – так Г. называет Крыловых.
9
Объектом, на который возлагаются надежды (лат.).
10
Лелия – героиня одноименного романа Жорж Санд (1833).
11
Л. и К. – возможно, профессора Московского университета В. И. Лешков и Д. Л. Крюков; но могут быть и А. Б. Лакиер и Н. К. Калайдович.
12
Об опере «Роберт-дьявол»
13
«Страньера» – опера В. Беллини «Straniera» – «Чужестранка» (1828).
14
«Одной тенью больше, одним лучом меньше» (англ.). Неточная цитата из цикла стихотворений Байрона «Еврейские мелодии» (1814); слова lesse и тоге нужно поменять местами.
15
Ее душа… все понятно… – Искаженная цитата из «Сказки для детей» Лермонтова (1840); в подлиннике:
…душа ее былаИз тех, которым рано все понятно.16
Валдайский – прототипом является реальный соперник Г., К. Д. Кавелин.
17
Романс А. Е. Варламова на слова М. Ю. Лермонтова.
18
«Забудемся» (франц.).
19
В конце Петроградской стороны, у Малой Невки (Колтовская наб. – ныне наб. адмирала Лазарева; Бол. Колтовская – ныне Пионерская ул.).
20
Афоризм, встречающийся еще у древних авторов, затем был высказан Вольтером («Диалог 14»); приписывается обычно Талейрану.
21
Жуков – сорт табака.
22
Впервые: Репертуар и пантеон, 1845, № 8, с. 493–515. Перепечатано: Григорьев Ап. Человек будущего. М., «Универсальная библиотека», 1916, с. 104–139. Рассказ особенно ценен «Записками Виталина»; они представляют вариант автобиографических записей Г. «Листки из рукописи скитающегося софиста», из которых до нас не дошли главы I–XIX. В рассказе довольно прозрачно зашифрованы основные герои любовной драмы Г. 1843–1844 гг. Даты дневника Виталина, очевидно, близки к реальным датам: ведь именно в феврале 1844 г. Г. покинул Москву.




