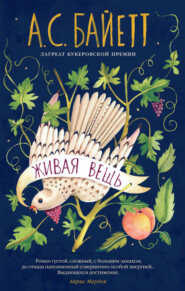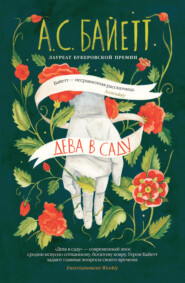По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вавилонская башня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дэниел, алло. Вы слышите?
– Слышу, – отвечает Дэниел. Во рту пересохло. – Что с ней?
– Ушибла голову. Ее нашли на детской площадке. Может, какая-нибудь девочка сбила с ног, может, упала с чего-нибудь – неизвестно… Дэниел, алло!
Язык не слушается. Негромким голосом, каким и сам Дэниел обычно успокаивает звонящих, Руфь продолжает:
– Она почти наверняка поправится. Ушиб не спереди, а сзади, это хорошо. Сзади черепные кости прочнее. Но я подумала, может, все-таки вам сказать, может, вы захотите приехать.
– Да, – отвечает Дэниел. – Да, конечно, немедленно выезжаю. Поездом. Так всем и передайте, выезжаю. Спасибо, Руфь.
– Ей отвели лучшую палату, – доносится издалека голос. – Уход – сами понимаете: стараемся.
– Понимаю. До свидания.
Он кладет трубку и сидит, уставившись в стенку своей кабинки. Крупный мужчина сидит и дрожит.
– Чем-нибудь помочь? – спрашивает каноник Холли.
– С дочкой несчастный случай. В Йоркшире. Надо ехать.
– Нужно выпить крепкого горячего чая, – советует Джинни. – Сейчас дам. А каноник позвонит на Кингз-Кросс и узнает расписание поездов, да? Вы, Дэниел, знаете, как это произошло?
– Нет. И они, кажется, тоже. Ее нашли на детской площадке. Мне надо идти.
Каноник уже набрал номер вокзала и слушает рокот в трубке.
– Сколько ей?
– Восемь.
Про своих детей он канонику и Джинни не рассказывает, а они не спрашивают. Они знают, что жена его погибла по трагической случайности, что дети живут в Йоркшире у дедушки с бабушкой. Знают, что он их навещает, но сам он об этих посещениях молчит. Джинни наливает ему еще чаю, угощает сладким печеньем: сахар тут считается первым средством помощи при стрессе. Каноник вдруг начинает записывать время отправления поездов. Хорошо хоть до Кингз-Кросса пара минут ходьбы, замечает Джинни, можно по дороге купить зубную щетку. Деловито расспрашивает о состоянии девочки.
– Она без сознания. Говорят, почти наверняка поправится. Может, и так, они ведь, наверно, отвечают за свои слова?
– Да уж наверно, отвечают.
– Она еще совсем маленькая, – произносит Дэниел.
Но мысленно он видит перед собой не Мэри, в сознании или без сознания. Он видит жену Стефани: она лежит на полу в кухне, губа вздернулась, открывая влажный оскал. Он – всего-навсего человек, видевший это лицо. Она – всего-навсего это жуткое лицо. Эта картина засела у него в мозгу. Таково посмертное существование Стефани. Лицо это преследует его даже в часы бодрствования. Приобретя повадку затравленного зверя, он ловко уклоняется и ускользает от всяких таящихся в закоулках сознания подробностей, способных высветить, вызвать это лицо в памяти. Есть слова, невинные приятные воспоминания, есть запахи, есть люди, которых он чурается как огня, потому что они напомнят об этом мертвом лице. Сновидения он даже раскрашивает черной тушью, не выпускает сознание во сне из тисков воли, не позволяет себе видеть во сне это лицо и просыпаться с этим воспоминанием.
Он не раз говорил себе, что пережившие горе – подобно ему – нередко чувствуют, как опасны они для других. Других переживших. Сам он и правда чувствует, как опасен для Уилла и Мэри, своих детей. Впрочем, это не единственная причина, почему они живут в Йоркшире, а он обитает здесь, в подземной часовне под башней церкви Святого Симеона.
И вот он словно метнул в свою дочурку валун или столкнул ее с высоты.
– Один поезд отходит через четырнадцать минут, – сообщает каноник Холли. – Следующий через час и четырнадцать минут. За четырнадцать минут вам не успеть.
– Постараюсь, – отвечает Дэниел. – Я бегом.
И он поднимается по ступенькам.
В пору былого величия Ла Тур Брюйар был замком почти неприступным. Проезжая по долине и раскинувшимся окрест лугам, путники приметили, сколь крепки и неприветливы его внешние стены, местами обветшалые, местами изуродованные брешами, где-то гордо высящиеся, где-то рассыпавшиеся по склону замшелыми глыбами. На крепостном валу и в проломах работники восстанавливали стены. На них были яркие короткие камзолы – лазурные, светло-вишневые, алые, – и от этого труд их походил на празднество. Госпоже Розарии почудилось даже, что они поют – что издалека доносятся мелодичные звуки.
Во дворе замка обнаруживалось, что у него не одна башня, а множество, и все они разных размеров и очертаний, словно твердыню эту сооружали веками без единого плана. Все камни для постройки добывались на склоне одной горы, но в остальном башни были разительно несхожи: прямоугольные и конические, незамысловатые и прихотливо изукрашенные, с башенками, с крытыми сланцем куполами, со стрельчатыми окошками, мерцавшими, как глаза, с галереями, в наряде из плюща и иных ползучих растений. Многие башенки были не то недостроены, не то полуразрушены, и там, на карнизах и лишенных кровли крышах, яркими пятнами мелькали камзолы работников. Когда путники взъезжали на холм, где стоял замок, сверху доносились радостные и приветные возгласы, и под ноги коням сыпались торжественные подношения: плоды и цветы.
Путники въехали в проем меж двумя привратными башнями, но очутились не во дворе, как ожидала госпожа Розария, а в темном тоннеле, не то образованном стенами двух соседствующих зданий, не то проложенном в скале. Сумрак в извилистом этом тоннеле, ведущем в недра твердыни, рассеивали только снопы света из редких окошек под самым сводом, а где потемнее – светильники на вбитых в свод закопченных крюках. Но вот тоннель кончился, и они оказались в тесном дворе-колодце. Вокруг вздымались здания из множества ярусов: портик над портиком, балкон во вкусе барокко прилепился к готической галерее, ввысь убегали ряды обычных окон, которые по законам перспективы уменьшались самым изящным образом, а над ними виднелась незаконченная соломенная кровля, больше подобающая средневековому коровнику. Одни окна сияли мириадами разноцветных огоньков, другие, с потрескавшимися арочными сводами, зияли, как пустые глазницы. Небо в эти первые минуты после прибытия казалось госпоже Розарии далеким-предалеким и, как всегда, когда оно кажется далеким-предалеким, синело особенно густо, иззубренное и исцарапанное краями кровель, похожими на ногти и зубы, обрубки членов и осколки черепов.
Жилые покои
Кюльвер повел госпожу Розарию в приготовленные для нее покои. Они шли по бесчисленным коридорам с бесчисленными дверьми и арками, поднимались и спускались по множеству лестниц – госпожа Розария диву давалась на такую причудливость. Покои ее располагались в длинной галерее, и дверь в них была скрыта расшитой завесой. В мутном, неровном свете трудно было различить, что изображалось на этой вышивке, но госпоже Розарии показалось, что это скопища яростно извивающихся конечностей, обращенные вверх круглые груди, растрескавшиеся арбузы на зеленой траве.
Внутри все было залито розовым светом. Сначала госпожа Розария подумала, что они оказались в гостиной, освещенной огнем камина, но потом поняла, что они в будуаре, где изящные окна завешены розовым шелковым тюлем, сквозь который льется солнечный свет. Мебель располагалась так, что комната оставалась просторной. Стояло здесь палисандровое бюро с инкрустацией, из того же дерева молитвенный аналой с подколенником, обитым розовым бархатом, – для коленопреклонений удобнее не придумать. В остальном будуар был убран в восточном вкусе: низкие диваны, инкрустированные слоновой костью, по ним разбросаны подушки всевозможных форм и размеров, мягкие шелковые ковры, затканные персидскими розами, и гвоздиками, и маргаритками с багрянцем на кончиках лепестков. Были тут большие мягкие кушетки, самый вид которых навевал сладкую истому, а на них наброшены покрывала из чего-то, что при таком освещении походило на котиковый мех телесного цвета, кашемировые шали, розовый мех лисий. Госпожа Розария вбежала в опочивальню, где высилось громадное, как галеон, ложе с расшитым пологом, вспененным кисеей и муслином. По всем комодам и столикам были расставлены сияющие волшебным светом склянки, благоухающие цветами и мускусом. Среди подушек и одеял укромного этого ложа недолго сгинуть без возврата – и не в одиночку.
Госпожа Розария ходила по комнатам, ахала, ощупывала шелка и слоновую кость, парчу и черепаховую отделку, атлас, и меха, и перья. Но вот она отдернула шелковую штору – и при свете дня со многих предметов и тканей сбежал розовый румянец, оттенки сделались тоньше: белоснежное и светло-палевое, северные меха, клыки и кости обитателей юга, серебристое шитье и бледнейшая золотистость шелковых покрывал.
Пройдет время – и при близком рассмотрении откроется, что роскошь эта лишь мишура, а под ней холод камня и мерзость запустения, плиты пола в потеках и трещинах, стены крошатся. Но сейчас все это было наглухо скрыто плотными шпалерами и завесями, белыми и темно-розовыми в честь госпожи Розарии. Было там и изысканнейшее изображение Дианы, выполненное разными оттенками красного и белого, розового и телесного цвета: богиня-девственница совершает омовение в серебристом ручье под белоснежными ветвями, а рядом юный Актеон, румяный красавец, но уже и млечно-белый олень, на теле этого существа ярко алеют беспорядочные струи крови, бегущей из-под белых клыков бледных гончих, которые картинно впились в задыхающееся горло Актеона.
Прибытие детей
На третьи сутки новые обитатели замка сидели за полдень на просторном балконе, пили и беседовали о том, как устроить жизнь так, чтобы она дарила еще больше отрад и наслаждений. Слуги обоего пола то и дело подливали в кружки и бокалы пенистое пиво, багряное и золотистое вино. В Башне уже порешили, что разделение на хозяев и слуг упраздняется, – порешили то бишь хозяева, слугам о том никто не сообщал и совета у них не спрашивал, – но как и когда произвести эту важную перемену в отношениях обитателей Башни, к согласию еще не пришли. Условились лишь, что обсудят это во всех подробностях, когда в замке соберется все общество и можно будет считать, что задуманное поистине начинает исполняться.
Госпожа Розария и Кюльвер, Турдус Кантор и Нарцисс обозревали окрестные луга и равнины, когда зоркий Нарцисс приметил среди деревьев на краю долины какое-то движение. Из темного леса, как казалось с такой вышины, медленно выполз червь, вокруг которого сновали муравьи, но, когда он подполз ближе, стало ясно, что это вереница повозок, а с ними всадники со стрекалами, подгоняющие упряжных животных. Вереница все приближалась, и уже можно было различить три огромные фуры, каждая с парой волов в упряжке, а еще ближе стало видно, что волы затейливо разукрашены гирляндами и кончики рогов у них вызолочены.
– Дети, дети едут! – донеслось со двора, и сидевшие на балконе, дождавшись, когда фуры подъедут к воротам, стремглав бросились вниз по лестнице, чтобы встретить добравшихся до места назначения в стенах крепости.
Кто сидел в покачивающихся крытых повозках, сверху было не видать, видны были только возницы в тяжелых плащах с капюшонами, скрывающими лица, в руках – длинные бичи с короткой рукоятью, какими в деревнях подгоняют неповоротливую скотину. И правда: на вздымающихся белых боках волов рдели кровавые рубцы, следы усердия возниц, которое, впрочем, не оказывало на медлительных животных никакого действия. Провести громоздкие фуры в середину крепости – если это была середина – оказалось делом нелегким: до встречающих доносились странные хрипы, жалобное мычание, тревожный рев, и наконец фуры въехали в темный двор.
Вот он, блаженный миг, которого ждали с таким нетерпением! Верх повозок откинут и свернут; то, что было внутри, рвется наружу: детские личики, мягкие волосы, сияющие глаза, нежные кулачки. Кто-то спал и теперь потягивается, выходя из сонного забытья. Другие, бойкие шалуны, с улыбкой предвкушают новые приключения. Третьи, более робкие, сидят, смущенно потупившись, только шелковые ресницы трепещут над пухлыми щеками. Четвертые хнычут – у малышей всегда так: соберутся вместе веселые, резвые детишки и непременно кто-то захнычет. Но их голоса тонут в шуме праздничной суматохи. Детей ласкают, высаживают из повозок на каменные плиты нового их обиталища. Их любовно передают из рук в руки, целуют, оправляют растрепанные платьица, и под сенью высоких зданий царит радость.
Пригласили и возниц сойти с козел и присоединиться к общему ликованию. Те спустились наземь, откинули с запыленных лиц капюшоны, свернули и убрали бичи. Первой фурой правил старый знакомец всего общества Меркурий, красавец с гибким крутым телом, острым, как лезвие, профилем и как бы вопрошающей улыбкой, от которой трепетали сердечные струны Целии и Цинтии. Появление Меркурия было еще одной радостью, ибо ходили слухи, что путь ему преградили войска, что он был схвачен нагим в борделе в объятьях блудницы, что он сложил голову на плахе, выдав себя за своего доброго друга Армина, что он утонул, переплывая реку в самое половодье. От этих разноречивых известий ожидавшим его рисовались ужасные картины. Не только Цинтии с Целией, но и чувствительному Нарциссу воображалось, что это они тонут в реке, что это их обезглавливают, их нагишом вытаскивают из постели, прерывая любовное соитие, что это они спасаются бегством, а ветви деревьев их хлещут, кустарник стреноживает. Утешало лишь несходство этих историй, которое наводило на мысль, что, возможно, нет среди них ни одной правдивой, что все это выдумки, – как теперь и оказалось.
Второй возница – круглолицый, румяный как маков цвет, с черными как смоль волосами, остриженными так коротко, будто он лишь неделю-другую как бежал из тюрьмы или из армии. Но когда он с заливистым хохотом сбросил с себя плащ, под ним обнаружилось пышное женское тело, и все узнали в этом развеселом арестанте госпожу Пионию, героиню множества амурных приключений и совсем уж несчетных историй о разных интригах, истинных или мнимых. Кюльвер и Розария бросились заключить эту дородную даму в объятия, а она, еще раз напоследок щелкнув бичом, объявила, что маленькие ее подопечные вели себя примерно и заслужили сладостей: на заставах сидели, притаившись, как мышки, на горных лугах услаждали ее слух пением и пели как соловьи, – всех их она нежно любит, так бы и задушила в объятиях.
Тут выступил вперед третий возница и медленно-медленно стащил капюшон, обнажив седоватую голову, седоватую бороду и задубевшее лицо с морщинками вокруг светло-голубых глаз. Молчание охватило толпу, а потом люди стали перешептываться: пришельца никто не знал, и все расспрашивали друг друга, знаком ли он кому-нибудь, случалось ли видеть его раньше.
А у госпожи Розарии вырвалось:
– От этого человека пахнет кровью.
Незнакомец сделал еще шаг-другой, вертя в руках бич и улыбаясь, как показалось некоторым, – а правда ли он улыбался, под усами и бородой было не разобрать.
– Кто ты? – спросил Кюльвер.
– Ты обо мне наслышан, имя мое уж точно слышал не раз, а многие здесь знают меня не только по имени… к моему прискорбию, – прибавил незнакомец скорбным голосом.
– Если бы я не знал, что это невозможно, – задумчиво сказал Фабиан, – я бы сказал, что тебя зовут Грим, что ты полковник Грим из Национальной революционной гвардии.
– Да, я был полковником Национальной гвардии, а прежде – полковником гвардии королевской: всю жизнь моим ремеслом была военная служба. Но вот я здесь и, если вы меня не прогоните, хочу остаться с вами.
– Слышу, – отвечает Дэниел. Во рту пересохло. – Что с ней?
– Ушибла голову. Ее нашли на детской площадке. Может, какая-нибудь девочка сбила с ног, может, упала с чего-нибудь – неизвестно… Дэниел, алло!
Язык не слушается. Негромким голосом, каким и сам Дэниел обычно успокаивает звонящих, Руфь продолжает:
– Она почти наверняка поправится. Ушиб не спереди, а сзади, это хорошо. Сзади черепные кости прочнее. Но я подумала, может, все-таки вам сказать, может, вы захотите приехать.
– Да, – отвечает Дэниел. – Да, конечно, немедленно выезжаю. Поездом. Так всем и передайте, выезжаю. Спасибо, Руфь.
– Ей отвели лучшую палату, – доносится издалека голос. – Уход – сами понимаете: стараемся.
– Понимаю. До свидания.
Он кладет трубку и сидит, уставившись в стенку своей кабинки. Крупный мужчина сидит и дрожит.
– Чем-нибудь помочь? – спрашивает каноник Холли.
– С дочкой несчастный случай. В Йоркшире. Надо ехать.
– Нужно выпить крепкого горячего чая, – советует Джинни. – Сейчас дам. А каноник позвонит на Кингз-Кросс и узнает расписание поездов, да? Вы, Дэниел, знаете, как это произошло?
– Нет. И они, кажется, тоже. Ее нашли на детской площадке. Мне надо идти.
Каноник уже набрал номер вокзала и слушает рокот в трубке.
– Сколько ей?
– Восемь.
Про своих детей он канонику и Джинни не рассказывает, а они не спрашивают. Они знают, что жена его погибла по трагической случайности, что дети живут в Йоркшире у дедушки с бабушкой. Знают, что он их навещает, но сам он об этих посещениях молчит. Джинни наливает ему еще чаю, угощает сладким печеньем: сахар тут считается первым средством помощи при стрессе. Каноник вдруг начинает записывать время отправления поездов. Хорошо хоть до Кингз-Кросса пара минут ходьбы, замечает Джинни, можно по дороге купить зубную щетку. Деловито расспрашивает о состоянии девочки.
– Она без сознания. Говорят, почти наверняка поправится. Может, и так, они ведь, наверно, отвечают за свои слова?
– Да уж наверно, отвечают.
– Она еще совсем маленькая, – произносит Дэниел.
Но мысленно он видит перед собой не Мэри, в сознании или без сознания. Он видит жену Стефани: она лежит на полу в кухне, губа вздернулась, открывая влажный оскал. Он – всего-навсего человек, видевший это лицо. Она – всего-навсего это жуткое лицо. Эта картина засела у него в мозгу. Таково посмертное существование Стефани. Лицо это преследует его даже в часы бодрствования. Приобретя повадку затравленного зверя, он ловко уклоняется и ускользает от всяких таящихся в закоулках сознания подробностей, способных высветить, вызвать это лицо в памяти. Есть слова, невинные приятные воспоминания, есть запахи, есть люди, которых он чурается как огня, потому что они напомнят об этом мертвом лице. Сновидения он даже раскрашивает черной тушью, не выпускает сознание во сне из тисков воли, не позволяет себе видеть во сне это лицо и просыпаться с этим воспоминанием.
Он не раз говорил себе, что пережившие горе – подобно ему – нередко чувствуют, как опасны они для других. Других переживших. Сам он и правда чувствует, как опасен для Уилла и Мэри, своих детей. Впрочем, это не единственная причина, почему они живут в Йоркшире, а он обитает здесь, в подземной часовне под башней церкви Святого Симеона.
И вот он словно метнул в свою дочурку валун или столкнул ее с высоты.
– Один поезд отходит через четырнадцать минут, – сообщает каноник Холли. – Следующий через час и четырнадцать минут. За четырнадцать минут вам не успеть.
– Постараюсь, – отвечает Дэниел. – Я бегом.
И он поднимается по ступенькам.
В пору былого величия Ла Тур Брюйар был замком почти неприступным. Проезжая по долине и раскинувшимся окрест лугам, путники приметили, сколь крепки и неприветливы его внешние стены, местами обветшалые, местами изуродованные брешами, где-то гордо высящиеся, где-то рассыпавшиеся по склону замшелыми глыбами. На крепостном валу и в проломах работники восстанавливали стены. На них были яркие короткие камзолы – лазурные, светло-вишневые, алые, – и от этого труд их походил на празднество. Госпоже Розарии почудилось даже, что они поют – что издалека доносятся мелодичные звуки.
Во дворе замка обнаруживалось, что у него не одна башня, а множество, и все они разных размеров и очертаний, словно твердыню эту сооружали веками без единого плана. Все камни для постройки добывались на склоне одной горы, но в остальном башни были разительно несхожи: прямоугольные и конические, незамысловатые и прихотливо изукрашенные, с башенками, с крытыми сланцем куполами, со стрельчатыми окошками, мерцавшими, как глаза, с галереями, в наряде из плюща и иных ползучих растений. Многие башенки были не то недостроены, не то полуразрушены, и там, на карнизах и лишенных кровли крышах, яркими пятнами мелькали камзолы работников. Когда путники взъезжали на холм, где стоял замок, сверху доносились радостные и приветные возгласы, и под ноги коням сыпались торжественные подношения: плоды и цветы.
Путники въехали в проем меж двумя привратными башнями, но очутились не во дворе, как ожидала госпожа Розария, а в темном тоннеле, не то образованном стенами двух соседствующих зданий, не то проложенном в скале. Сумрак в извилистом этом тоннеле, ведущем в недра твердыни, рассеивали только снопы света из редких окошек под самым сводом, а где потемнее – светильники на вбитых в свод закопченных крюках. Но вот тоннель кончился, и они оказались в тесном дворе-колодце. Вокруг вздымались здания из множества ярусов: портик над портиком, балкон во вкусе барокко прилепился к готической галерее, ввысь убегали ряды обычных окон, которые по законам перспективы уменьшались самым изящным образом, а над ними виднелась незаконченная соломенная кровля, больше подобающая средневековому коровнику. Одни окна сияли мириадами разноцветных огоньков, другие, с потрескавшимися арочными сводами, зияли, как пустые глазницы. Небо в эти первые минуты после прибытия казалось госпоже Розарии далеким-предалеким и, как всегда, когда оно кажется далеким-предалеким, синело особенно густо, иззубренное и исцарапанное краями кровель, похожими на ногти и зубы, обрубки членов и осколки черепов.
Жилые покои
Кюльвер повел госпожу Розарию в приготовленные для нее покои. Они шли по бесчисленным коридорам с бесчисленными дверьми и арками, поднимались и спускались по множеству лестниц – госпожа Розария диву давалась на такую причудливость. Покои ее располагались в длинной галерее, и дверь в них была скрыта расшитой завесой. В мутном, неровном свете трудно было различить, что изображалось на этой вышивке, но госпоже Розарии показалось, что это скопища яростно извивающихся конечностей, обращенные вверх круглые груди, растрескавшиеся арбузы на зеленой траве.
Внутри все было залито розовым светом. Сначала госпожа Розария подумала, что они оказались в гостиной, освещенной огнем камина, но потом поняла, что они в будуаре, где изящные окна завешены розовым шелковым тюлем, сквозь который льется солнечный свет. Мебель располагалась так, что комната оставалась просторной. Стояло здесь палисандровое бюро с инкрустацией, из того же дерева молитвенный аналой с подколенником, обитым розовым бархатом, – для коленопреклонений удобнее не придумать. В остальном будуар был убран в восточном вкусе: низкие диваны, инкрустированные слоновой костью, по ним разбросаны подушки всевозможных форм и размеров, мягкие шелковые ковры, затканные персидскими розами, и гвоздиками, и маргаритками с багрянцем на кончиках лепестков. Были тут большие мягкие кушетки, самый вид которых навевал сладкую истому, а на них наброшены покрывала из чего-то, что при таком освещении походило на котиковый мех телесного цвета, кашемировые шали, розовый мех лисий. Госпожа Розария вбежала в опочивальню, где высилось громадное, как галеон, ложе с расшитым пологом, вспененным кисеей и муслином. По всем комодам и столикам были расставлены сияющие волшебным светом склянки, благоухающие цветами и мускусом. Среди подушек и одеял укромного этого ложа недолго сгинуть без возврата – и не в одиночку.
Госпожа Розария ходила по комнатам, ахала, ощупывала шелка и слоновую кость, парчу и черепаховую отделку, атлас, и меха, и перья. Но вот она отдернула шелковую штору – и при свете дня со многих предметов и тканей сбежал розовый румянец, оттенки сделались тоньше: белоснежное и светло-палевое, северные меха, клыки и кости обитателей юга, серебристое шитье и бледнейшая золотистость шелковых покрывал.
Пройдет время – и при близком рассмотрении откроется, что роскошь эта лишь мишура, а под ней холод камня и мерзость запустения, плиты пола в потеках и трещинах, стены крошатся. Но сейчас все это было наглухо скрыто плотными шпалерами и завесями, белыми и темно-розовыми в честь госпожи Розарии. Было там и изысканнейшее изображение Дианы, выполненное разными оттенками красного и белого, розового и телесного цвета: богиня-девственница совершает омовение в серебристом ручье под белоснежными ветвями, а рядом юный Актеон, румяный красавец, но уже и млечно-белый олень, на теле этого существа ярко алеют беспорядочные струи крови, бегущей из-под белых клыков бледных гончих, которые картинно впились в задыхающееся горло Актеона.
Прибытие детей
На третьи сутки новые обитатели замка сидели за полдень на просторном балконе, пили и беседовали о том, как устроить жизнь так, чтобы она дарила еще больше отрад и наслаждений. Слуги обоего пола то и дело подливали в кружки и бокалы пенистое пиво, багряное и золотистое вино. В Башне уже порешили, что разделение на хозяев и слуг упраздняется, – порешили то бишь хозяева, слугам о том никто не сообщал и совета у них не спрашивал, – но как и когда произвести эту важную перемену в отношениях обитателей Башни, к согласию еще не пришли. Условились лишь, что обсудят это во всех подробностях, когда в замке соберется все общество и можно будет считать, что задуманное поистине начинает исполняться.
Госпожа Розария и Кюльвер, Турдус Кантор и Нарцисс обозревали окрестные луга и равнины, когда зоркий Нарцисс приметил среди деревьев на краю долины какое-то движение. Из темного леса, как казалось с такой вышины, медленно выполз червь, вокруг которого сновали муравьи, но, когда он подполз ближе, стало ясно, что это вереница повозок, а с ними всадники со стрекалами, подгоняющие упряжных животных. Вереница все приближалась, и уже можно было различить три огромные фуры, каждая с парой волов в упряжке, а еще ближе стало видно, что волы затейливо разукрашены гирляндами и кончики рогов у них вызолочены.
– Дети, дети едут! – донеслось со двора, и сидевшие на балконе, дождавшись, когда фуры подъедут к воротам, стремглав бросились вниз по лестнице, чтобы встретить добравшихся до места назначения в стенах крепости.
Кто сидел в покачивающихся крытых повозках, сверху было не видать, видны были только возницы в тяжелых плащах с капюшонами, скрывающими лица, в руках – длинные бичи с короткой рукоятью, какими в деревнях подгоняют неповоротливую скотину. И правда: на вздымающихся белых боках волов рдели кровавые рубцы, следы усердия возниц, которое, впрочем, не оказывало на медлительных животных никакого действия. Провести громоздкие фуры в середину крепости – если это была середина – оказалось делом нелегким: до встречающих доносились странные хрипы, жалобное мычание, тревожный рев, и наконец фуры въехали в темный двор.
Вот он, блаженный миг, которого ждали с таким нетерпением! Верх повозок откинут и свернут; то, что было внутри, рвется наружу: детские личики, мягкие волосы, сияющие глаза, нежные кулачки. Кто-то спал и теперь потягивается, выходя из сонного забытья. Другие, бойкие шалуны, с улыбкой предвкушают новые приключения. Третьи, более робкие, сидят, смущенно потупившись, только шелковые ресницы трепещут над пухлыми щеками. Четвертые хнычут – у малышей всегда так: соберутся вместе веселые, резвые детишки и непременно кто-то захнычет. Но их голоса тонут в шуме праздничной суматохи. Детей ласкают, высаживают из повозок на каменные плиты нового их обиталища. Их любовно передают из рук в руки, целуют, оправляют растрепанные платьица, и под сенью высоких зданий царит радость.
Пригласили и возниц сойти с козел и присоединиться к общему ликованию. Те спустились наземь, откинули с запыленных лиц капюшоны, свернули и убрали бичи. Первой фурой правил старый знакомец всего общества Меркурий, красавец с гибким крутым телом, острым, как лезвие, профилем и как бы вопрошающей улыбкой, от которой трепетали сердечные струны Целии и Цинтии. Появление Меркурия было еще одной радостью, ибо ходили слухи, что путь ему преградили войска, что он был схвачен нагим в борделе в объятьях блудницы, что он сложил голову на плахе, выдав себя за своего доброго друга Армина, что он утонул, переплывая реку в самое половодье. От этих разноречивых известий ожидавшим его рисовались ужасные картины. Не только Цинтии с Целией, но и чувствительному Нарциссу воображалось, что это они тонут в реке, что это их обезглавливают, их нагишом вытаскивают из постели, прерывая любовное соитие, что это они спасаются бегством, а ветви деревьев их хлещут, кустарник стреноживает. Утешало лишь несходство этих историй, которое наводило на мысль, что, возможно, нет среди них ни одной правдивой, что все это выдумки, – как теперь и оказалось.
Второй возница – круглолицый, румяный как маков цвет, с черными как смоль волосами, остриженными так коротко, будто он лишь неделю-другую как бежал из тюрьмы или из армии. Но когда он с заливистым хохотом сбросил с себя плащ, под ним обнаружилось пышное женское тело, и все узнали в этом развеселом арестанте госпожу Пионию, героиню множества амурных приключений и совсем уж несчетных историй о разных интригах, истинных или мнимых. Кюльвер и Розария бросились заключить эту дородную даму в объятия, а она, еще раз напоследок щелкнув бичом, объявила, что маленькие ее подопечные вели себя примерно и заслужили сладостей: на заставах сидели, притаившись, как мышки, на горных лугах услаждали ее слух пением и пели как соловьи, – всех их она нежно любит, так бы и задушила в объятиях.
Тут выступил вперед третий возница и медленно-медленно стащил капюшон, обнажив седоватую голову, седоватую бороду и задубевшее лицо с морщинками вокруг светло-голубых глаз. Молчание охватило толпу, а потом люди стали перешептываться: пришельца никто не знал, и все расспрашивали друг друга, знаком ли он кому-нибудь, случалось ли видеть его раньше.
А у госпожи Розарии вырвалось:
– От этого человека пахнет кровью.
Незнакомец сделал еще шаг-другой, вертя в руках бич и улыбаясь, как показалось некоторым, – а правда ли он улыбался, под усами и бородой было не разобрать.
– Кто ты? – спросил Кюльвер.
– Ты обо мне наслышан, имя мое уж точно слышал не раз, а многие здесь знают меня не только по имени… к моему прискорбию, – прибавил незнакомец скорбным голосом.
– Если бы я не знал, что это невозможно, – задумчиво сказал Фабиан, – я бы сказал, что тебя зовут Грим, что ты полковник Грим из Национальной революционной гвардии.
– Да, я был полковником Национальной гвардии, а прежде – полковником гвардии королевской: всю жизнь моим ремеслом была военная служба. Но вот я здесь и, если вы меня не прогоните, хочу остаться с вами.